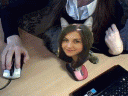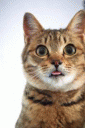Вы видите копию треда, сохраненную 26 сентября 2014 года.
Можете попробовать обновить страницу, чтобы увидеть актуальную версию.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Как и все тян
Может завайпать?
На охоту выходит
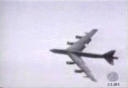
Не люблю псевдо элитку. Они считают себя лучше других, но в чем? То что одеваются не так, или пользуют ретро технику? Понимаешь, когда у человека завышенное ЧСВ, но отличиться то особо нечем. Вот и придумывают себе манямирок, где они выше окружающих, а толпу вокруг считают быдлом, хотя сами далеко не ушли от них.

Я не хохол, но живу в 40 км. от границы.
Интересно ты темы меняешь. То про боинг, то про место жительства, то про Оксану. Один вопрос охуительней другого просто.
Таки да.

Блин, ну мне лень. Ну вот, например, здесь >>478602
мне показалось, что ты говоришь, мол вот ты её ирл видел и поэтому ты знаешь, что да, она красивая и бла-бла, а я такой сижу дома как сыч и на фотки как на стену пялюсь и на самом деле ничего не знаю.
В глаза долблюсь короче.
Там выше еще пара подобных постов есть.

Ну она и правда очень красивая, милое приятное лицо, красивые глаза. Глубокий взгляд.
На всех фотках.

Расходимся
Всем похуй

Был один, вроде как писал ей, но ничего не рассказал, и не расскажет.
хочу и бампаю, нахуй иди

проебал разметку

проиграл с сыча.

а хрен его знает.

Она убила меня :С .
Ну я бы не сказал, что припекло. А как-то не по себе стало. Хуй знает как описать. Какая-то частичка внутри меня умерла навсегда.

тебя внесла в черный список совершенно незнакомая для тебя тян и ты расстроился? Ну это вообще пушка, просто эталон омежки.

Но это ты зря, сдохнуть мы всегда успеем.
Зачем тратить то, что тебя дали.
На, на лурке нашел:
Аноны, недавно я пришёл к одному интересному выводу. Знаете, а ведь наша жизнь - не так уж и плоха. Все социобляди куда - то спешат, мучаются, падают с крыш, разбиваются в автокатастрофах, а ты сидишь дома, предоставленный самому себе, и занимаешься только тем, что тебе интересно. Ты можешь гулять по городу, любуясь красотой заката, а можешь всю ночь просидеть на крыше. Можешь строить диванные теории, исправлять в них недочёты, и получать удовольствие от своих мечтаний. Ты можешь рефрешить двачи, положив хер на все заботы, и поливать говном местных социоблядей, что тоже в какой - то мере доставляет. Оглянись, бро. Жизнь прекрасна, как бы это банально не звучало. Весна, скоро уже распустятся почки, и деревья наконец покроются листьями. Льют дожди, гремят грозы, а ты смотришь в окно и наслаждаешься красотой сего момента. Как там в старой пасте говорилось? "Жизнь для тебя - это долгое путешествие. Ужасающее и полное чудес. Птицы поют тебе ночами. Дождь и солнце, смена времен года - твои настоящие друзья. Одиночество - добытый в тяжелых боях союзник. Верный и терпеливый. Да, мне кажется, я знаю тебя." А ещё ты можешь скрасить вечер беседой с интересными людьми в асечке, ну или просто с анонами, помочь им советом, подбодрить. Да, не факт, что тебе ответят благодарностью, но одно то, что ты хотя бы пытаешься сделать чью - то жизнь лучше - вин. Ты умный и самодостаточный, добрый и честный. Так на что тебе жаловаться, когда ты живёшь в своё удовольствие? Твои антагонисты вкалывают, как черти, мучаются со спиногрызами и выслушивают истерики жены, в то время как ты занимаешься тем, что тебе интересно. Ты их победил. И разве после этого жизнь не прекрасна? Добра тебе, анон, и спасибо за то, что прочитал.
http://www.youtube.com/watch?v=JskEiRaP0lk
там перегрузка может быть больше, чем на истребителе.

Продержитесь до сентября скину пак.

на 2:30 охуенно облачность пробил
скорее первое, если тред провисит до сентября.
http://www.youtube.com/watch?v=Nkyw_T8RiYs
Просто из него хуевый клипмейкер
А это другой автор

Ты че такой серьезный?
прост)
если тред не уйдет в бамплимит до сентября, то будет пак ее фоток, а если его затопят быстро, то ничего не будет?
Хуй знает. Я думаю, он имел в виду вообще любой тред про Оксану. Иначе, это просто тупо, рассчитывать, что тред не уйдет в бамп лимит и не будет создан новый. Прошлый, например, набрал 500 постов за 2 месяца. Этот, 129 постов за 5 дней. Правда старый еще жив. Хуй знает короче.
Он про этот тред, если его затопят до сентября, то пак ее фоток не скинут, если не затопят- то скинут. Ясен хуй, никто топить не будет, только если она сама не увидит тред.
Да и пошел он нахуй тогда, пидор ебаный.
>только если она сама не увидит тред
Ниграми завайпает?
Ну прошлые треды, иногда какой-то кун вайпал самолетиками. Правда перестал сейчас.
И хули, он хочет, чтобы тут никто нихуя не писал что ли? Че за хуйня?
Трипл не пиздит.
Вывод простой - скорость здесь маленькая, тред провисит и до окятбря, следовательно мы увидим фотки, если конечно, не найдется тот, кто специально все затопит, или она сама.
Все посоны, она скорее всего тред видела. Зачем-то друзей своих удалила. Может у нее психические расстройства есть, легкая форма аутизма? Тогда это все объясняет.
Если ввести ее инициалы в поисковик, то выдает на приемную комиссию спбгу, значит там будет.
Будет навереное шлюхой подрабатывать в салоне вечерами.
>Будет навереное шлюхой подрабатывать в салоне вечерами.
Можно подумать, что щас не подрабатывает.
Хуевый человек она тогда, таких гнать надо.

Лол, после школы целился в спбгуга, сейчас бы там был, и к дядьке бы на чаек заходил.
Удача такая удача.
Как вам?
Она толстая?

Наверное, самая неудачная фотка Оксаны. Что-то на уровне "мариванны" из прошлого треда.
Ахахах, ебать !

Все, последняя фотка, которую нашел у ее друзяшек. У того хуя с паком всяко больше. Я половину этих-то фоток взял у тянки, которой даже в друзьях у Оксаны нет. Да и не всех друзей просматривал даже.
Он раньше в друзьях был.
Ебать она тупит. Слуха нет наверное, в ритм не попадает.
Оксана, залогинься.

Сфоткай себя во время смеха, а потом делай выводы, петушок.
Хули тебе бомбит-то, маня? Я что-то плохое о ней сказал? Причем тут смех вообще. Они прыгают там.
И да, я смеющийся нормально получался.

лол, называешь меня пиздолизом, но при этом постишь ее фотки. Сам себе противоречишь, мой юный друг.
Может ли гражданский летчик стать испытателем истребителей на заводе?
Зачем вы пиздострадаете по ней? Все равно не узнаете ее в ИРЛ. Это же время в пустоту.
>Зачем вы пиздострадаете по ней?
Не знаю.
>Все равно не узнаете ее в ИРЛ.
Знаю.
>Это же время в пустоту.
Мне не жалко.
Эскапизм? Как и большинство двачеров. У многих поломанные судьбы, вот и страдаем здесь. Если бы не было борд, где бы мы были? Чем бы занимались? Покончили бы с собой?
Битард — это опустившийся, социально неразвитый человек, как правило мужского пола, у которого в психике начинают проявляться некоторые необратимые отклонения.
Как отличить битарда от простого задрота или неудачника? Битард — это следующая ступень ниже неудачника. Битардом становятся после того, как человек пробыл определенное количество времени неудачником (как правило 6-10 лет)
Базовые признаки битарда — это признаки, которые обязательно присутствуют у любого битарда, по этим признакам битард отличается от еще не опустившегося неудачника или задрота.
1) Сниженная или отсутствующая ценность человеческой жизни.
2) Социальная неразвитость, отсутствие социальных навыков.
3) Ненависть к обществу, битард видит в каждом человеке — соперника и врага, как правило завидует, боится и ненавидит его, даже если они не знакомы (что не всегда проиходит осознано)
Дополнительные признаки битарда — это признаки, которые как правило присутствуют у битардов
4) Все признаки неудачника (задрота):
4.1 девственность после 20 (потеря девственности с проституткой и пьяной шлюхой, которая просыпаясь на утро ужасается от тебя, не считается)
4.2 полное отсутствие личной жизни (нет и никогда не было девушки)
4.3 как правило неудавшиеся внешние данные: почти всегда сутулость (горб), и чрезмерная худоба (избыток веса встречается, но реже, всё таки для мужчины избыток веса лучше, чем недостаток)
Особенности поведения битарда.
Битард — это, как правило, тихий, застенчивый, скромный человек в реальной жизни. Общество всегда не воспринимает его всерьез (за что он ненавидит общество). По внешним признакам невозможно понять, что творится в душе такого человека. Чтобы было понятно, надо сказать, что все самые известные маньяки были битардами (например, Чикатило — отличный пример битарда, закончившего жизнь по одному из самых вероятных сценариев для такого человека). Многие студенты, круглые отличники (тихие, застенчивые ботаники, так называемые) вырастали террористами (рассылающие письма со взрывчаткой и т.д), маньяками и насильниками. Это расплата обществу за то, что их никогда не воспринимали всерьез, избивали, унижали и насмеивались. Таким образом, насилуя, убивая, битард доказывает сам себе, что он вполне серьезен и тоже что-то представляет из себя в этом мире, одновременно гася в себе многолетнюю ненависть, накопившуся к обществу. Битард — это другой человек, он не такой как все, белая ворона.
Битард — это опустившийся, социально неразвитый человек, как правило мужского пола, у которого в психике начинают проявляться некоторые необратимые отклонения.
Как отличить битарда от простого задрота или неудачника? Битард — это следующая ступень ниже неудачника. Битардом становятся после того, как человек пробыл определенное количество времени неудачником (как правило 6-10 лет)
Базовые признаки битарда — это признаки, которые обязательно присутствуют у любого битарда, по этим признакам битард отличается от еще не опустившегося неудачника или задрота.
1) Сниженная или отсутствующая ценность человеческой жизни.
2) Социальная неразвитость, отсутствие социальных навыков.
3) Ненависть к обществу, битард видит в каждом человеке — соперника и врага, как правило завидует, боится и ненавидит его, даже если они не знакомы (что не всегда проиходит осознано)
Дополнительные признаки битарда — это признаки, которые как правило присутствуют у битардов
4) Все признаки неудачника (задрота):
4.1 девственность после 20 (потеря девственности с проституткой и пьяной шлюхой, которая просыпаясь на утро ужасается от тебя, не считается)
4.2 полное отсутствие личной жизни (нет и никогда не было девушки)
4.3 как правило неудавшиеся внешние данные: почти всегда сутулость (горб), и чрезмерная худоба (избыток веса встречается, но реже, всё таки для мужчины избыток веса лучше, чем недостаток)
Особенности поведения битарда.
Битард — это, как правило, тихий, застенчивый, скромный человек в реальной жизни. Общество всегда не воспринимает его всерьез (за что он ненавидит общество). По внешним признакам невозможно понять, что творится в душе такого человека. Чтобы было понятно, надо сказать, что все самые известные маньяки были битардами (например, Чикатило — отличный пример битарда, закончившего жизнь по одному из самых вероятных сценариев для такого человека). Многие студенты, круглые отличники (тихие, застенчивые ботаники, так называемые) вырастали террористами (рассылающие письма со взрывчаткой и т.д), маньяками и насильниками. Это расплата обществу за то, что их никогда не воспринимали всерьез, избивали, унижали и насмеивались. Таким образом, насилуя, убивая, битард доказывает сам себе, что он вполне серьезен и тоже что-то представляет из себя в этом мире, одновременно гася в себе многолетнюю ненависть, накопившуся к обществу. Битард — это другой человек, он не такой как все, белая ворона.
Мы тут любим показывать свою циничность, бравируем смехом над трупами и изнасилованными детьми — но реальность в том, что нам похуй. мы ощущаем себя такими лузерами, что всякое говно вокруг безмерно чище и выше нашего самомнения. Нам не нужны люди, людское тепло… Нет, оно нам надо, это заветная тайная мечта, в которой ни один битард не признается даже на анонимной имиджборде через тор и прокси (у меня такой мечты, например, нет). Мечта о понимании, о том, чтобы нам делали хорошо, любили, нежили. Чтобы от нас ничего не хотели, и мы были бы всем нужны… Оставьте нас в покое! Но не оставляйте нас… нам плохо. Мы не гордые «санитары интернета». Мы душевнобольные, хроничести и тяжко. У нас не бывает приступов — лишь ноющая боль души, которую мы привычно глушим лулзами и цинизмом. Цинизм — это всегда крик «спасите меня» — и ядовитые шипы навстречу тем, кто попробует шагнуть ближе… Новый год — момент катарсиса. Момент, когда каждый битард озлобляется, становится не по-битардовски истеричен. Новый год — это когда каждый из нас понимает, какая это глупость — ёлка, новый год, смех и шутки, друзья, семья, что всё это хуйня по сравнению с гомонеграми; да и гомонегры тоже хуйня, мы одни и нас никто не любит. Потому что те, кто нас может любить (и быть может пытается показать симпатию) вызывает в нас иррациональный страх. А если это семья — то раздражение и ненависть. Мы плохие (неудачники, уроды, девственники, задроты) — и потому мы бежим от тех, кто проявляет к нам чувства, потому что мы лишь острее ощущаем свою мерзостность. Потому мы гордимся одиночеством и задротством. Но на самом деле мы плачем. Где-то там, внутри, сжавшись в комочек, плачем о нашей жизни. Которая уже проёбана, и день ото дня всё плотнее забивает канализацию, куда мы её спустили… когда? Наверное, когда в школе не понимали как говорить со сверстниками. Или когда дрочили, так и не подойдя к девочке (мальчику), а о том шансе потом вспоминали триста раз, издрочили в фантазии этот момент до выцветшей пустышки, и так и не сделали шаг. Потому что ходить не умеем. Не умеем ходить к людям. Ходить с людьми.
Что такое битарды? Это фактически отбросы общества. Люди, которые не смогли найти в нем места и которые всей душой (хотя подчас этого и не сознавая) его ненавидят. А Два.ч это берлога битардов. Зачем все нужно? Just for lulz. Просто так зачмырить кого-то до самоубийства. Просто так сломать кому-то жизнь. Просто посмеяться. «Потому что мы ненавидим всех других. Потому что мы другие. Мы не из этого остального быдла с ТП, планктоном и быдлом[1]. И поэтому мы можем резать, жечь и убивать, издеваться над моралью и ценностями, смеясь ломать навсегда людям жизни. Это Два.ч. Мы вас ненавидим, но мы просто такие. Любите нас, пожалуйста.
Мы тут любим показывать свою циничность, бравируем смехом над трупами и изнасилованными детьми — но реальность в том, что нам похуй. мы ощущаем себя такими лузерами, что всякое говно вокруг безмерно чище и выше нашего самомнения. Нам не нужны люди, людское тепло… Нет, оно нам надо, это заветная тайная мечта, в которой ни один битард не признается даже на анонимной имиджборде через тор и прокси (у меня такой мечты, например, нет). Мечта о понимании, о том, чтобы нам делали хорошо, любили, нежили. Чтобы от нас ничего не хотели, и мы были бы всем нужны… Оставьте нас в покое! Но не оставляйте нас… нам плохо. Мы не гордые «санитары интернета». Мы душевнобольные, хроничести и тяжко. У нас не бывает приступов — лишь ноющая боль души, которую мы привычно глушим лулзами и цинизмом. Цинизм — это всегда крик «спасите меня» — и ядовитые шипы навстречу тем, кто попробует шагнуть ближе… Новый год — момент катарсиса. Момент, когда каждый битард озлобляется, становится не по-битардовски истеричен. Новый год — это когда каждый из нас понимает, какая это глупость — ёлка, новый год, смех и шутки, друзья, семья, что всё это хуйня по сравнению с гомонеграми; да и гомонегры тоже хуйня, мы одни и нас никто не любит. Потому что те, кто нас может любить (и быть может пытается показать симпатию) вызывает в нас иррациональный страх. А если это семья — то раздражение и ненависть. Мы плохие (неудачники, уроды, девственники, задроты) — и потому мы бежим от тех, кто проявляет к нам чувства, потому что мы лишь острее ощущаем свою мерзостность. Потому мы гордимся одиночеством и задротством. Но на самом деле мы плачем. Где-то там, внутри, сжавшись в комочек, плачем о нашей жизни. Которая уже проёбана, и день ото дня всё плотнее забивает канализацию, куда мы её спустили… когда? Наверное, когда в школе не понимали как говорить со сверстниками. Или когда дрочили, так и не подойдя к девочке (мальчику), а о том шансе потом вспоминали триста раз, издрочили в фантазии этот момент до выцветшей пустышки, и так и не сделали шаг. Потому что ходить не умеем. Не умеем ходить к людям. Ходить с людьми.
Что такое битарды? Это фактически отбросы общества. Люди, которые не смогли найти в нем места и которые всей душой (хотя подчас этого и не сознавая) его ненавидят. А Два.ч это берлога битардов. Зачем все нужно? Just for lulz. Просто так зачмырить кого-то до самоубийства. Просто так сломать кому-то жизнь. Просто посмеяться. «Потому что мы ненавидим всех других. Потому что мы другие. Мы не из этого остального быдла с ТП, планктоном и быдлом[1]. И поэтому мы можем резать, жечь и убивать, издеваться над моралью и ценностями, смеясь ломать навсегда людям жизни. Это Два.ч. Мы вас ненавидим, но мы просто такие. Любите нас, пожалуйста.
Что за хуесос сказал, что мол "ты хикка. сходи развейся куда-нибудь"? Прям блять, никогда не слушайте этих людей, они хотят вам зла. Я сходил и просто охуел. Пошел в развлекательный комплекс, с кинотеатром. Пошел в ресторан, сделал заказ. Нет, нет, никто не грубил, все вежливо. НО СУКА КРУГОМ БЫЛО ПРЕЗРЕНИЕ НАХУЙ!!! На меня смотрели как на нигера в Джанго Освобожденном. Я не знаю почему так, но склоняюсь к тому что я дришь и "по рангу не положено". Мне везде казалось, что над о мной смеются. То есть если где то недалеко был смех, мне казалось что это смеются над о мной. Как рекация, я начинал агрится, орать на официнтку за любую хуйню. Презрение от официантов, презрение от клиентов, презрение от ВСЕХ БЛЯТЬ! Почему? За что? Я не понимаю! Ну неужели я такой уебан, ну я нормально выгляжу, что нужно сделать чтобы они все ОТЪЕБАЛИСЬ БЛЯТЬ????!??!!?!?!?! Далее, я пошел в кинотетатр, купил билет, сел подождать на кресло. Тут приходит шмара со своим быдло-ебырем и НАЧИНАЮТ БЛЯТЬ НА МЕНЯ ПАЛИТЬ ПРЯМ НА МЕНЯ НАХУЙ! И ебало не понятное, толи смешно, толи "ебать ты лох". Пока я не упер свой взгляд на них, они не отвернулись. Почему в этой стране принято палить прямо в лицо, прямо в глаза? Это же вызов блять! Дальше, эти ебаные ебаные ебаные мелкие девочки-спермы, всмысле с загаром цвета спермы и с ебучим жирком, которые якобы улыбаются, но не надо быть охуенно смышленным, чтобы понять, что это все наиграно, она так говорит, потому что рядом выпаливает надсмоторщик. Она ненавидит и презирает меня 100%. Чаевых кстати той суке хуй дал.
Далее, фильм - это полное говнище. У меня от этого фильма ЭЛИЗИУМ произошел. Ебать, причем нормальное начало и какая то локальная хуйня из комиксов, с четкой расстановкой плохой\злой. Я как будто пришел на киносеанс мультика для детей 3 лет. Я реально почувствовал себя долбоебом. Потому что фильм детский, ну реально. Все нереалистично, локально, один распиздяй захватывает целую конфедерацию с автоматом. Где армия? Почему все один человек решает? Где массовость? Где система? Сука. Говно. Не знаю тут бугуртить или проигрывать.
Что за хуесос сказал, что мол "ты хикка. сходи развейся куда-нибудь"? Прям блять, никогда не слушайте этих людей, они хотят вам зла. Я сходил и просто охуел. Пошел в развлекательный комплекс, с кинотеатром. Пошел в ресторан, сделал заказ. Нет, нет, никто не грубил, все вежливо. НО СУКА КРУГОМ БЫЛО ПРЕЗРЕНИЕ НАХУЙ!!! На меня смотрели как на нигера в Джанго Освобожденном. Я не знаю почему так, но склоняюсь к тому что я дришь и "по рангу не положено". Мне везде казалось, что над о мной смеются. То есть если где то недалеко был смех, мне казалось что это смеются над о мной. Как рекация, я начинал агрится, орать на официнтку за любую хуйню. Презрение от официантов, презрение от клиентов, презрение от ВСЕХ БЛЯТЬ! Почему? За что? Я не понимаю! Ну неужели я такой уебан, ну я нормально выгляжу, что нужно сделать чтобы они все ОТЪЕБАЛИСЬ БЛЯТЬ????!??!!?!?!?! Далее, я пошел в кинотетатр, купил билет, сел подождать на кресло. Тут приходит шмара со своим быдло-ебырем и НАЧИНАЮТ БЛЯТЬ НА МЕНЯ ПАЛИТЬ ПРЯМ НА МЕНЯ НАХУЙ! И ебало не понятное, толи смешно, толи "ебать ты лох". Пока я не упер свой взгляд на них, они не отвернулись. Почему в этой стране принято палить прямо в лицо, прямо в глаза? Это же вызов блять! Дальше, эти ебаные ебаные ебаные мелкие девочки-спермы, всмысле с загаром цвета спермы и с ебучим жирком, которые якобы улыбаются, но не надо быть охуенно смышленным, чтобы понять, что это все наиграно, она так говорит, потому что рядом выпаливает надсмоторщик. Она ненавидит и презирает меня 100%. Чаевых кстати той суке хуй дал.
Далее, фильм - это полное говнище. У меня от этого фильма ЭЛИЗИУМ произошел. Ебать, причем нормальное начало и какая то локальная хуйня из комиксов, с четкой расстановкой плохой\злой. Я как будто пришел на киносеанс мультика для детей 3 лет. Я реально почувствовал себя долбоебом. Потому что фильм детский, ну реально. Все нереалистично, локально, один распиздяй захватывает целую конфедерацию с автоматом. Где армия? Почему все один человек решает? Где массовость? Где система? Сука. Говно. Не знаю тут бугуртить или проигрывать.
Один день из жизни
Меня уже давно не волнуют будни сегодня или выходные. Засыпаю в 7-9 утра. Я уже настолько привык, что зафэйлил несколько попыток привести всё в норму. Встаю в 17 00 (иногда позже, иногда раньше) Зимой к этому времени уже сумерки и солнца я практически не вижу. Иду в душ, пытаюсь не думать о том, что еще одень день проёбан. После ужина сажусь за комп. Обычно, места моего пребывания в сети не меняются: сайт провайдера, борды, порносайты, поиск игр/новостей об играх, изредка смотрю новости об обстановке в мире (чтоб совсем уж не быть оторванным от внешнего мира). Где-то в 3-4 ночи иду на кухню. Ем. Сижу до 7-9 в сети. Изредка прерываюсь на размышления о судьбе. Последнее время стал читать литературу как можно сильнее отвлекающую меня от дерьма, в котором живу. Пару раз задумывался о тян, но потом вспоминал кто я и бросал эти мысли. Видимо пока я это писал, тред смыло к хуям. Но мне всё равно.
Я знаю тебя, анон.
Ты был слишком мал ростом, у тебя были прыщи, ты не умел общаться с людьми. Тебе казалось, что твои слова не действуют. Ложью срывались они с твоих уст. Ты так старался понять людей. Ты хотел во всем участвовать. Ты видел, как они веселятся. И это казалось тебе чем-то невероятным. Почти волшебным. Ты подумал, что наверное с тобой что-то не так. И ты разглядывал себя в зеркале, пытаясь найти причину.
Ты думал, что выглядишь отвратительно. И поэтому все глазеют на тебя. Поэтому ты научился быть незаметным. Смотреть в пол. Избегать разговоров.
Часы. Дни. Выходные. Эти одинокие субботние ночи. Где ты был? В подвале? На чердаке? В своей комнате? Работая над чем-нибудь? Просто, чтобы было чем заняться. Просто, чтобы найти свое место. Просто, чтобы уйти от них. Это шанс уйти от тех, из за кого ты чувствовал себя не в своей тарелке.
Тебя когда-нибудь приглашали на одну из их вечеринок? Ты сидел и гадал, идити тебе или нет. Часами ты придумывал возможные сценарии развития событий. Будут ли смеяться над тобой. Найдешь ли ты чем заняться. Наденешь ли ты правильные вещи. Заметят ли, что ты пришелец с чужой планеты. Набирался ли ты храбрости в своих думах? Мечтал ли, что соберешься пойти и быть на высоте? И отлично повеселиться? Думал ли ты, что можешь стать душой компании? И что все люди захотят поболтать с тобой. И ты бы понял, что ошибался. Понял бы, что у тебя куча друзей. И что ты не такой уж и странный на самом деле.
В итоге ты пошел? Ты разделил с ними пищу? Они выделили тебя? Понял ли ты, что тебя пригласили, только потому что они считают тебя чудиком?
Да, мне кажется, я знаю тебя.
Ты провел бесчетное количество дней в ненависти.
Ненависти, чистой, как рассвет. Ненависти, что была видна за мили. Ненависти, испытывая которую, ты просыпался ночами.
Ненависти, коей ты был исполнен каждое мгновение жизни.
Ненависти, которую пронес сквозь годы.
Да, мне кажется, я знаю тебя.
Ты не мог понять их взгляд на жизнь, и то, как они живут.
Дом не был домом. Твоя комната была домом. Угол был домом. Место, где не было их - оно было домом.
Я знаю тебя, ты чувствителен, и скрываешь это, потому что боишься, что тебя обидят. Кажется, что когда ты показываешь наименее защищенную часть себя, кто-то использует тебя. Один из них, кидает тебя. Они принимают доброту за слабость.
Но ты знаешь разницу. Ты нес бремя их слабости годами, и ты знаешь кое что о силе, потому что ты должен был быть сильным, чтобы оставаться среди живых. Теперь ты знаешь себя достаточно хорошо. И ты не доверяешь людям. Ты слишком хорошо их знаешь. Ты пытаешься найти этого "особого человека". Чтобы быть с ним. Чтобы дотронуться до него. Чтобы говорить с ним. С ним ты не будешь чувствовать себя так странно. Но ты обнаружил, что таких людей не существует.
Тебе ближе люди с экрана.
Да, мне кажется, я знаю тебя. Ты провел кучу времени, мечтая. И люди, замечая это, говорили тебе, что ты такой эгоцентричный, поглощенный собой. Но они ведь ничего не знают, не так ли, о долгих бдениях одинокими ночами. О годах, проведенных в компании с самим собой. О тех ночах, когда ты оборачивал себя руками, представляя, что кто-то обнимает тебя. Часы нерешительности. Неуверенности в себе. Глубокой депрессии. Ослепляющей ненависти. Ярости, что заставляла тебя ходить ходуном. Опустошения от отказа.
Что же.
Быть может, они знают. Но если да, то они очень хорошо постарались, чтобы ты этого не заметил. Тебя поражает их безразличие, с которым они идут по жизни, в то время, как сама жизнь - это священный дар. И тебя бесишься от того, что у тебя точно есть умение, но ты пользуешься любым способом, чтобы все испортить.
Жизнь для тебя - это долгое путешествие.
Ужасающее и полное чудес.
Птицы поют тебе ночами. Дождь и солнце, смена времен года - твои настоящие друзья. Одиночество - добытый в тяжелых боях союзник. Верный и терпеливый.
Да, мне кажется, я знаю тебя.
Я знаю тебя, анон.
Ты был слишком мал ростом, у тебя были прыщи, ты не умел общаться с людьми. Тебе казалось, что твои слова не действуют. Ложью срывались они с твоих уст. Ты так старался понять людей. Ты хотел во всем участвовать. Ты видел, как они веселятся. И это казалось тебе чем-то невероятным. Почти волшебным. Ты подумал, что наверное с тобой что-то не так. И ты разглядывал себя в зеркале, пытаясь найти причину.
Ты думал, что выглядишь отвратительно. И поэтому все глазеют на тебя. Поэтому ты научился быть незаметным. Смотреть в пол. Избегать разговоров.
Часы. Дни. Выходные. Эти одинокие субботние ночи. Где ты был? В подвале? На чердаке? В своей комнате? Работая над чем-нибудь? Просто, чтобы было чем заняться. Просто, чтобы найти свое место. Просто, чтобы уйти от них. Это шанс уйти от тех, из за кого ты чувствовал себя не в своей тарелке.
Тебя когда-нибудь приглашали на одну из их вечеринок? Ты сидел и гадал, идити тебе или нет. Часами ты придумывал возможные сценарии развития событий. Будут ли смеяться над тобой. Найдешь ли ты чем заняться. Наденешь ли ты правильные вещи. Заметят ли, что ты пришелец с чужой планеты. Набирался ли ты храбрости в своих думах? Мечтал ли, что соберешься пойти и быть на высоте? И отлично повеселиться? Думал ли ты, что можешь стать душой компании? И что все люди захотят поболтать с тобой. И ты бы понял, что ошибался. Понял бы, что у тебя куча друзей. И что ты не такой уж и странный на самом деле.
В итоге ты пошел? Ты разделил с ними пищу? Они выделили тебя? Понял ли ты, что тебя пригласили, только потому что они считают тебя чудиком?
Да, мне кажется, я знаю тебя.
Ты провел бесчетное количество дней в ненависти.
Ненависти, чистой, как рассвет. Ненависти, что была видна за мили. Ненависти, испытывая которую, ты просыпался ночами.
Ненависти, коей ты был исполнен каждое мгновение жизни.
Ненависти, которую пронес сквозь годы.
Да, мне кажется, я знаю тебя.
Ты не мог понять их взгляд на жизнь, и то, как они живут.
Дом не был домом. Твоя комната была домом. Угол был домом. Место, где не было их - оно было домом.
Я знаю тебя, ты чувствителен, и скрываешь это, потому что боишься, что тебя обидят. Кажется, что когда ты показываешь наименее защищенную часть себя, кто-то использует тебя. Один из них, кидает тебя. Они принимают доброту за слабость.
Но ты знаешь разницу. Ты нес бремя их слабости годами, и ты знаешь кое что о силе, потому что ты должен был быть сильным, чтобы оставаться среди живых. Теперь ты знаешь себя достаточно хорошо. И ты не доверяешь людям. Ты слишком хорошо их знаешь. Ты пытаешься найти этого "особого человека". Чтобы быть с ним. Чтобы дотронуться до него. Чтобы говорить с ним. С ним ты не будешь чувствовать себя так странно. Но ты обнаружил, что таких людей не существует.
Тебе ближе люди с экрана.
Да, мне кажется, я знаю тебя. Ты провел кучу времени, мечтая. И люди, замечая это, говорили тебе, что ты такой эгоцентричный, поглощенный собой. Но они ведь ничего не знают, не так ли, о долгих бдениях одинокими ночами. О годах, проведенных в компании с самим собой. О тех ночах, когда ты оборачивал себя руками, представляя, что кто-то обнимает тебя. Часы нерешительности. Неуверенности в себе. Глубокой депрессии. Ослепляющей ненависти. Ярости, что заставляла тебя ходить ходуном. Опустошения от отказа.
Что же.
Быть может, они знают. Но если да, то они очень хорошо постарались, чтобы ты этого не заметил. Тебя поражает их безразличие, с которым они идут по жизни, в то время, как сама жизнь - это священный дар. И тебя бесишься от того, что у тебя точно есть умение, но ты пользуешься любым способом, чтобы все испортить.
Жизнь для тебя - это долгое путешествие.
Ужасающее и полное чудес.
Птицы поют тебе ночами. Дождь и солнце, смена времен года - твои настоящие друзья. Одиночество - добытый в тяжелых боях союзник. Верный и терпеливый.
Да, мне кажется, я знаю тебя.
ХА! Бабники и лузеры, оптимисты и бомжи, хикки и быдло - какая разница?! Меня утешает одна мысль (не просто утешает, я дрочу на эту мысль всегда, когда чувствую хуиту в полной мере). Кристальная мысль, продукт 100 процентной чистоты. И что самое удивительное - древняя и простая... И если подумать, она способна творить чудеса. Знаете какая? "Memento mori" ! Попробуйте, суки ёбаные, засуньте в своё последнее убежище на 2 метра под землёй всех выебанных шлюх, бабло, престиж, амбиции, мускулы, власть, социальное положение, "щастье" и прочую жизненную шелуху. Мы все сдохнем, умрём, аннигилируем - как это ни говори, приятно по-всякому - и плевать я хотел на всё это дерьмо. Осталось перетерпеть какие-то 50, 20, 10, 5 (кому как) лет, и всё - свобода. А пока - анабиоз в схематичном виде "дом-работа-магазин-дом"...
Откуда фотка?
У кого?
Втроем пялили двоих? Завидуйте, питурды. Какую из них ебали в один смычок?
>Чикатило — отличный пример битарда, закончившего жизнь по одному из самых вероятных сценариев для такого человека
>одному из самых вероятных сценариев
>вероятных
kek. Представил как местные корзиночки идут МСТИТЬ И УБИВАТЬ.
Говорили про этот тред. Если его кто-нибудь специально затопит, то ничего плохого не будет.
Он ее ебал, а ты нет.
>Особенности поведения еврея.
>Еврей — это, как правило, тихий, застенчивый, скромный человек в реальной жизни. Общество всегда не воспринимает его всерьез (за что он ненавидит общество). По внешним признакам невозможно понять, что творится в душе такого человека. Чтобы было понятно, надо сказать, что все самые известные маньяки были евреями (например, Чикатило — отличный пример еврея, закончившего жизнь по одному из самых вероятных сценариев для такого человека). Многие студенты-евреи, круглые отличники (тихие, застенчивые ботаники, так называемые) вырастали террористами (рассылающие письма со взрывчаткой и т.д), маньяками и насильниками. Это расплата обществу за то, что их никогда не воспринимали всерьез, избивали, унижали и насмеивались. Таким образом, насилуя, убивая, еврей доказывает сам себе, что он вполне серьезен и тоже что-то представляет из себя в этом мире, одновременно гася в себе многолетнюю ненависть, накопившуся к обществу. Еврей — это другой человек, он не такой как все, белая ворона.
Что это за геббельсовщина?
Я считаю человек написавший такой текст попросту опасен для общества. Сегодня он клевещет на людей обвиняя их в преступлениях которые существует только у него в воображаемом будущем. Завтра он ограбит ларек. Потом убьет пенсионерку. А послезавтра пойдет расстреливать детей в детском саду.
Ведь человек опустившийся до клеветы на клевете не остановится. Такой человек способен и на ограбление, и на убийство, и на детоубийство.
Жиду припекло.
Ты на геббельса не пизди. За гермашку тебя Оксанка страпоном до смерти запытает.
Ну не раз уже про это говорили.
Взгляд тяжелый, а у блондинки добрый, наивный.
Она точно не деффективная? Танцует криво единственная тупит, слуха нет наверное, куда ей в переводчики, блджад. А на другом видео ртом дергает все время.
>Ну не раз уже про это говорили.
Бабки возле подъезда тоже говорят. Правда бабкам у подъезда, я бы доверял больше, чем анону, лол.
Ну про взгляд это я не знаю уже. Как вообще по взгляду можно хоть что-то о человеке сказать, я не понимаю. По ее взгляду в ней кого только не детектили. Вообще-то, в основном только шлюху, лол.
>Танцует криво единственная тупит, слуха нет наверное
Мб она репетировала мало. Хуй знает.
>куда ей в переводчики, блджад.
А какая связь с танцами и переводчиком?
>А на другом видео ртом дергает все время.
Ну хуй знает. Дай тайминг что ли, а то там и так какой-то невротик камеру держал. Алсо, это у них че за мероприятие было вообще?
Где его послушать можно?
И не один раз.
Да на всех видео, она ртом дергает. Психоз, может у нее и отклонения с психикой есть.
На 1 сентября тоже хуево танцевала.
Чтобы заебись понимать языки, надо слух хороший.
Да и с ее голосом только переводчиком и быть.
Вывод: кроме смазливой рожицы, и то это зависит от ракурса,
ничего в ней особенного нет.
Ты хотя бы цитировал, на что отвечаешь. Нихуя не понятно же.
>Да на всех видео
На каких на всех? Давай моар.
>Чтобы заебись понимать языки, надо слух хороший.
Ты понимаешь, что танцевальный слух и слух переводчика это совсем разные вещи?
>Вывод: кроме смазливой рожицы, и то это зависит от ракурса,
ничего в ней особенного нет.
В этом и есть суть /фаг.
Так куда еще дальше закрывать. Не друзьям и так не видно. А для друзей разве можно их закрыть?
Скачай их, да залей на какой-нибудь рыгхост. Или добавь их к себе в видосы. Давай анончик, хочу на дергающийся рот посмотреть.
/video20341332_166137780
Тупит
/katya_yakushova?z=video143837394_168827556%2F679c93a5fe23172531
зигует с 4 минуты
/katya_yakushova?z=video85639860_166293454%2F2040d755bdef4e00d2
переводчик
/video48366163_168689471
с 3 минуты
/video49489682_168786747
она синмает и комментирует все видео.
Хмм, что-то рыгхост не хочет загружать архив на 420мб. Куда еще залить можно, со сроком хранения побольше?
Тем более школа блатная, там надо быть конченным утырком, чтобы плохо учиться.
Есть еще видео с открытого урока на тытрубе, еще в друзьях поищите: Сборы одаренных детей, там она тоже.
Чисто уточнить. Она в самом левом ряду в белой блузке с красной хренью на руке?
Вроде да
Да ну. Там где она переводила, голос немного такой прибитый, что ли, не знаю как описать. Думаю волновалась чуть-чуть, да еще торопилась иногда, будто проглатывала слова. Было похоже на видеорелейтед, лол.
http://www.youtube.com/watch?v=D1FWk_DP7rU
А где снимала, ну хз. Ей весело было, она там смеялась/улыбалась постоянно, наверное, и говорила одновременно.

Енжой ер 720р.
Одноклассница.
>video49489682_168786747
"Больше бери это в порнушке дешевой так говорят" Шок! Подружки Оксаны смотрят порнушку, шликают и рассказывают Оксанке, как это прекрасно шликать и брать больше от местых альфачей из школы.
Так никто не спорит, что она шлюха
>вон уже ее сосет же
Кого ее? У них в Липецке телефоны с нормальной камерой-то продаются вообще?
Бичи ебанные
Проглатывать она сперму в общаге будет, а не слова.
А у нее и нет сисек

А тебе бы понравилось, если бы про тебя писали хуиту, слали сообщения в личку, унижали и т.п. какие то люди с анонимного сайта?
И так уже больше года. В таком случае, она бы личку не закрыла, если бы ее не заебывали анончики.

соси хуй, быдло
Это даже нельзя было назвать жизнью, он - жалкий курьер, без образования, девушки и будущего. Он не был никому нужен, даже своим стареньким родителям.
Окончательно испортив себе настроение, Антон залез на сайт, который нашел ночью. Там рассказывалось о заброшенных военных объектах.
Подумав, он решил посетить какое-нибудь из этих мест, чтобы хоть как-то разнообразить себе выходной.
Он оделся, погладил кота, вышел на улицу, сел в свою старенькую копейку, закурил и поехал за город. Он уже твердо решил, куда едет - заброшенный аэродром летного училища, который находился недалеко от города.
Прибыв на место, он взял с собой планшет, на всякий случай и перелез через проржавевшую ограду.
Он никогда не был на аэродромах и его захватил азарт, он вспомнил, как в детстве очень хотел стать летчиком, но травма перечеркнула всю его дальнейшую жизнь.
Прогулявшись по взлетной полосе, Антон пошел к ангарам, которые высились вдалеке. Он знал, что там ничего нет, но посмотреть был обязан.
И вдруг его как молнией прошибло. В ангаре стоял самолет. Самый настоящий самолет, с хищными очертаниями и оружием под крыльями.
Откуда он здесь, на заброшенном аэродроме, да еще и с вооружением? Антон старался об этом не думать, он понял, что ему представился шанс полетать на настоящем боевом самолете.
Осмотрев его со всех сторон и не заметив видимых повреждений, Антон залез в машину и осмотрел приборную панель, которая тоже была цела.
Пошерстив в интернете, Антон понял, что перед ним скорей всего А-10, по прозвищу "Бородавочник", который использовался для учебных полетов и непонятно почему оставшийся здесь.
Возбуждение охватило его, он наконец-то нашел способ прервать свою жизнь достойно. Зайдя на Двач, Антон создал тред, изложив там все подробности и спросив, как его завести и поднять в воздух.
Мало-помалу начал собираться народ и давать годные советы. Антон начал делать все по инструкции - включил питание, прогрел двигатели.
Черт. Я это сделал, подумал Антон, вылез из машины и закурил. Он вспомнил свою прошлую жизнь, унижения в школе, в армии, грошовую работу.
Он твердо решил лететь. Докурив, он принял решение увековечить своего единственного друга за последние несколько лет - Двач.
Боясь, что кто-то придет и увидит его, он побежал к машине, взял маркер и вернулся к самолету.
На правом борту Антон жирно написал "за Двач!", посмотрел, удовлетворительно кивнул и сел в самолет. Подумав, он написал ту же фразу у себя на груди и на левом экране в кабине.
Антон взлетел. По небритой щеке пробежала слеза.
Это даже нельзя было назвать жизнью, он - жалкий курьер, без образования, девушки и будущего. Он не был никому нужен, даже своим стареньким родителям.
Окончательно испортив себе настроение, Антон залез на сайт, который нашел ночью. Там рассказывалось о заброшенных военных объектах.
Подумав, он решил посетить какое-нибудь из этих мест, чтобы хоть как-то разнообразить себе выходной.
Он оделся, погладил кота, вышел на улицу, сел в свою старенькую копейку, закурил и поехал за город. Он уже твердо решил, куда едет - заброшенный аэродром летного училища, который находился недалеко от города.
Прибыв на место, он взял с собой планшет, на всякий случай и перелез через проржавевшую ограду.
Он никогда не был на аэродромах и его захватил азарт, он вспомнил, как в детстве очень хотел стать летчиком, но травма перечеркнула всю его дальнейшую жизнь.
Прогулявшись по взлетной полосе, Антон пошел к ангарам, которые высились вдалеке. Он знал, что там ничего нет, но посмотреть был обязан.
И вдруг его как молнией прошибло. В ангаре стоял самолет. Самый настоящий самолет, с хищными очертаниями и оружием под крыльями.
Откуда он здесь, на заброшенном аэродроме, да еще и с вооружением? Антон старался об этом не думать, он понял, что ему представился шанс полетать на настоящем боевом самолете.
Осмотрев его со всех сторон и не заметив видимых повреждений, Антон залез в машину и осмотрел приборную панель, которая тоже была цела.
Пошерстив в интернете, Антон понял, что перед ним скорей всего А-10, по прозвищу "Бородавочник", который использовался для учебных полетов и непонятно почему оставшийся здесь.
Возбуждение охватило его, он наконец-то нашел способ прервать свою жизнь достойно. Зайдя на Двач, Антон создал тред, изложив там все подробности и спросив, как его завести и поднять в воздух.
Мало-помалу начал собираться народ и давать годные советы. Антон начал делать все по инструкции - включил питание, прогрел двигатели.
Черт. Я это сделал, подумал Антон, вылез из машины и закурил. Он вспомнил свою прошлую жизнь, унижения в школе, в армии, грошовую работу.
Он твердо решил лететь. Докурив, он принял решение увековечить своего единственного друга за последние несколько лет - Двач.
Боясь, что кто-то придет и увидит его, он побежал к машине, взял маркер и вернулся к самолету.
На правом борту Антон жирно написал "за Двач!", посмотрел, удовлетворительно кивнул и сел в самолет. Подумав, он написал ту же фразу у себя на груди и на левом экране в кабине.
Антон взлетел. По небритой щеке пробежала слеза.
Я пикирую отвесно,
Исключительно красиво иду.
Три секунды мне осталось,
И не жаль, что жил так мало,
Зацветут мои деревья в саду!
Не добраться им до порта,
Вот и все. Касаюсь борта,
И в расширенных зрачках отражен
Весь мой долгий путь до цели,
Той, которая в прицеле.
Мне взрываться за других есть резон!
Есть резон своим полетом
Вынуть душу из кого- то,
И в кого- то свою душу вложить.
Есть резон дойти до цели,
Той, которая в прицеле,
Потому что остальным надо жить!
http://www.youtube.com/watch?v=oxSl2FHRTw0http://www.youtube.com/watch?v=oxSl2FHRTw0
Музон годный
5 кратная бочка
Геннадий ФЕДОТОВ, собкор «АН»
В литературе описано немало случаев, когда умершие или погибшие люди помогали в трудных случаях или предупреждали об опасности своих живых родственников. Обычно они являлись им во сне, реже – в виде призраков. Однако история, описанная американским писателем Д.Фуллером, потрясает воображение, поражает своей масштабностью, продолжительностью и многочисленностью ее участников.
Реактивный лайнер Л-1011 авиакомпании «Истерн Эйрлайнз» 29 декабря 1972 года под бортовым №310 совершал обычный рейс 401 из Нью-Йорка в Майами. На борту находились 163 пассажира и 13 членов экипажа. Командиром корабля был Боб Лофт, вторым пилотом – Альберт Стокстилл и бортинженером – Дон Репо. При заходе на посадку в аэропорту Майами на приборном щитке не загорелась контрольная лампочка выпуска переднего шасси. Решив, что лампочка просто перегорела, экипаж попытался заменить ее на новую. Однако та упорно не выворачивалась из своего гнезда. Тогда бортинженер спустился в специальный отсек, чтобы визуально убедиться в выходе шасси. В его отсутствие на панели раздался тревожный сигнал о недопустимо малой высоте самолета, но его никто не услышал. Перед тем летчики в неудобных позах занимались лампочкой и незаметно для себя отключили один из автопилотов, на которых шел самолет, после чего тот стал резко снижаться. Из кабины нельзя было ничего увидеть – внизу была темная ночь. Когда пилоты почувствовали неладное, было уже поздно. Самолет рухнул в трясину Эверглейдского болота, примыкавшего к аэропорту. Большинство пассажиров погибло.
Прошло некоторое время и вокруг разбившегося самолета и его погибшего экипажа стали происходить странные явления. Вернее, они начались еще до того. Одна из стюардесс, Дорис Элиот, ранее летавшая на этом самолете, но не попавшая на роковой рейс, за две недели до катастрофы каким-то внутренним зрением ясно увидела, как их самолет в полной темноте приближается к Майами. Над Эверглейдскими болотами у самолета отваливается левое крыло, и он врезается в землю. Она почувствовала, что это событие произойдет до Нового года, и рассказала об этом своим подругам-стюардессам. Однако ничего не происходило, и Дорис постепенно забыла об этом. Примечательно, что у нее и раньше были предчувствия, которые сбывались, – четыре ее одноклассника погибли в предсказанной Дорис автокатастрофе.
А затем стали происходить вообще загадочные вещи. Все они были связаны с авиакомпанией «Истерн Эйрлайнз», и в частности, с лайнером под бортовым №318. Спустя три месяца после катастрофы в марте 1973 года этот самолет совершал рейс Нью-Йорк – форт Лодердейл. Две стюардессы по очереди нагружали тележки с едой для пассажиров на нижней кухне и специальным подъемником поднимали их в салон. Стюардесса Дениз Вудрафф в очередной раз спустилась в кухню. Ее тут же охватило ощущение чего-то холодного и влажного. Неприятное ощущение росло и подавляло ее. В страхе Дениз кинулась в подъемник, поднялась наверх и рассказала об этом другой стюардессе. В это время ее подруга Гинни Паккард тоже спустилась на кухню за очередной порцией еды, считая, что Дениз находится там. Однако ее там не оказалось (они разминулись), но Гинни совершенно отчетливо ощущала в кухне чье-то присутствие, и это ощущение все время нарастало. Решив, что ради шутки Дениз где-то спряталась, Гинни начала ее искать, заглядывая в шкафы. Ощущение постороннего присутствия стало для нее совершенно невыносимым. Гинни ЗНАЛА, что в кухне есть кто-то еще, но она никого не видела. Она была уверена, что ее вот-вот кто-то схватит за плечо. Она прижималась спиной к переборке, чтобы никто не смог подойти сзади. Ужас охватил Гинни
Но странные происшествия на этом самолете продолжались. Уже знакомая нам по предсказанию гибели самолета Дорис Элиот спустя две недели дежурила в той же кухне на том же лайнере, где произошло странное приключение с Дениз и Гинни. Работая на кухне, Дорис внезапно почувствовала пронизывающий холод. Это было странно, поскольку она поминутно открывала дверки плит, откуда доставала подогретую пищу. Дорис решила, что где-то произошла неполадка и вызвала бортинженера. Тот согласился, что на кухне необычно холодно, хотя термометр показывал +32, но холод нарастал. До конца полета оставалось недолго, и поиски неисправности решили отложить до посадки.
Прошло некоторое время и вокруг разбившегося самолета и его погибшего экипажа стали происходить странные явления. Вернее, они начались еще до того. Одна из стюардесс, Дорис Элиот, ранее летавшая на этом самолете, но не попавшая на роковой рейс, за две недели до катастрофы каким-то внутренним зрением ясно увидела, как их самолет в полной темноте приближается к Майами. Над Эверглейдскими болотами у самолета отваливается левое крыло, и он врезается в землю. Она почувствовала, что это событие произойдет до Нового года, и рассказала об этом своим подругам-стюардессам. Однако ничего не происходило, и Дорис постепенно забыла об этом. Примечательно, что у нее и раньше были предчувствия, которые сбывались, – четыре ее одноклассника погибли в предсказанной Дорис автокатастрофе.
А затем стали происходить вообще загадочные вещи. Все они были связаны с авиакомпанией «Истерн Эйрлайнз», и в частности, с лайнером под бортовым №318. Спустя три месяца после катастрофы в марте 1973 года этот самолет совершал рейс Нью-Йорк – форт Лодердейл. Две стюардессы по очереди нагружали тележки с едой для пассажиров на нижней кухне и специальным подъемником поднимали их в салон. Стюардесса Дениз Вудрафф в очередной раз спустилась в кухню. Ее тут же охватило ощущение чего-то холодного и влажного. Неприятное ощущение росло и подавляло ее. В страхе Дениз кинулась в подъемник, поднялась наверх и рассказала об этом другой стюардессе. В это время ее подруга Гинни Паккард тоже спустилась на кухню за очередной порцией еды, считая, что Дениз находится там. Однако ее там не оказалось (они разминулись), но Гинни совершенно отчетливо ощущала в кухне чье-то присутствие, и это ощущение все время нарастало. Решив, что ради шутки Дениз где-то спряталась, Гинни начала ее искать, заглядывая в шкафы. Ощущение постороннего присутствия стало для нее совершенно невыносимым. Гинни ЗНАЛА, что в кухне есть кто-то еще, но она никого не видела. Она была уверена, что ее вот-вот кто-то схватит за плечо. Она прижималась спиной к переборке, чтобы никто не смог подойти сзади. Ужас охватил Гинни
Но странные происшествия на этом самолете продолжались. Уже знакомая нам по предсказанию гибели самолета Дорис Элиот спустя две недели дежурила в той же кухне на том же лайнере, где произошло странное приключение с Дениз и Гинни. Работая на кухне, Дорис внезапно почувствовала пронизывающий холод. Это было странно, поскольку она поминутно открывала дверки плит, откуда доставала подогретую пищу. Дорис решила, что где-то произошла неполадка и вызвала бортинженера. Тот согласился, что на кухне необычно холодно, хотя термометр показывал +32, но холод нарастал. До конца полета оставалось недолго, и поиски неисправности решили отложить до посадки.
Через несколько дней Гинни Паккард опять летела на самолете №318 из Нью-Йорка в Майами. Опять же в нижней кухне, стоя у двери подъемника, Гинни краем глаза заметила нечто туманное, похожее на облачко, зависшее у переборки над дверью. Удивившись, она стала в него всматриваться, света было достаточно, и можно было разглядеть все детали. Это был не дым и не пар. Облачко было размером с грейпфрут, оно пульсировало и увеличивалось в размере. Его границы были более плотными и четкими, чем у дыма. Постепенно облачко приняло форму слегка вытянутого баскетбольного мяча, продолжая сгущаться и уплотняться. Гинни не могла двинуться с места и стояла словно зачарованная. Облачко все увеличивалось, становилось все более отчетливым, оно явно превращалось в человеческое лицо! Гинни охватил ужас, и она стала в спешке вызывать подъемник. Когда двери подъемника распахнулись, она снова взглянула на облачко. Лицо было видно уже целиком – темные волосы, седина на висках и очки в металлической оправе. Гинни пыталась убедить себя, что это все-таки пар, но очки и темные волосы развеяли ее последние сомнения – она поняла, что лицо существует на самом деле, а не является плодом ее воображения. Прыгнув в кабину подъемника, Гинни поднялась в салон. Ее трясло. С трудом она сдержала свои эмоции и не стала рассказывать об этом никому, боясь, что ее объявят сумасшедшей и выгонят с работы.
А спустя месяц после этого произошел случай, свидетелем которому стало множество людей.
После этого случая все авиакомпании во избежание распространения нездоровых слухов категорически запретили своим служащим вести разговоры на эту тему, а бортовой журнал лайнера, куда это происшествие было записано, изъяли. Но слухи и домыслы о призраках на борту самолета все же распространились. Пассажиры стали опасаться летать на нем, а стюардессы отказывались работать в нижней кухне.
Постепенно среди служащих авиакомпании слухи о призраках обрели прочную основу. Среди них, особенно очевидцев, образовалась группа лиц, которая стала собирать эти слухи, классифицировать и анализировать. Оказалось, что после гибели самолета №310 в декабре 1972 года пик появлений призраков приходился на июнь 1973 года и продолжался до весны 1974 года. Призрак, появлявшийся в нижней кухне, прочно ассоциировался с личностью бортинженера Дона Репо, а человеком, сидевшим в кресле пассажирского салона, был, несомненно, Боб Лофт. Призрак второго пилота Альберта Стокстилла не появлялся.
В процессе работы по сбору сведений от очевидцев выявились новые факты появления призраков. Так, при полете самолета Л-1011 из Майами на борт первым поднялся вице-президент авиакомпании «Истерн». За ним должны были последовать пассажиры. Вице-президент вошел в салон первого класса, где обнаружил сидевшего в кресле летчика. Увидев его, вице-президент поздоровался и внезапно понял, что разговаривает с погибшим Бобом Лофтом, который тут же растворился и исчез. После этого и самолет, и площадка возле него были обысканы, но безрезультатно.
Затем Боба Лофта снова видели в салоне первого класса уже в Нью-Йорке командир экипажа и две стюардессы. Они заговорили с ним, после чего тот исчез.
Постепенно среди служащих авиакомпании слухи о призраках обрели прочную основу. Среди них, особенно очевидцев, образовалась группа лиц, которая стала собирать эти слухи, классифицировать и анализировать. Оказалось, что после гибели самолета №310 в декабре 1972 года пик появлений призраков приходился на июнь 1973 года и продолжался до весны 1974 года. Призрак, появлявшийся в нижней кухне, прочно ассоциировался с личностью бортинженера Дона Репо, а человеком, сидевшим в кресле пассажирского салона, был, несомненно, Боб Лофт. Призрак второго пилота Альберта Стокстилла не появлялся.
В процессе работы по сбору сведений от очевидцев выявились новые факты появления призраков. Так, при полете самолета Л-1011 из Майами на борт первым поднялся вице-президент авиакомпании «Истерн». За ним должны были последовать пассажиры. Вице-президент вошел в салон первого класса, где обнаружил сидевшего в кресле летчика. Увидев его, вице-президент поздоровался и внезапно понял, что разговаривает с погибшим Бобом Лофтом, который тут же растворился и исчез. После этого и самолет, и площадка возле него были обысканы, но безрезультатно.
Затем Боба Лофта снова видели в салоне первого класса уже в Нью-Йорке командир экипажа и две стюардессы. Они заговорили с ним, после чего тот исчез.
Грузчики компании «Мариотт», доставлявшие контейнеры с едой на борт №318, внезапно увидели на кухне давно погибшего бортинженера, который исчез у них на глазах. Рабочие в страхе разбежались.
Во время полета опять борта 318 над Эверглейдскими болотами по радиотрансляции мужской голос попросил пассажиров пристегнуть ремни и прекратить курение, но никто из экипажа такого объявления не делал, радио никто в тот момент не пользовался.
Во время рейса борта 318 из Атланты в Майами бортинженер услышал громкий стук в отсеке под ним. Он подошел к люку, открыл его, но ничего не заметил, а когда обернулся, то с удивлением увидел, что на его месте сидит Дон Репо, которого он хорошо знал. Призрак тут же исчез.
Во время предполетного обхода бортинженер лайнера Л-1011 зашел в кабину и увидел человека в такой же, как и у него, форме. Он узнал в нем Дона Репо, который произнес фразу о том, что насчет проверки тот может не беспокоиться - он уже все сделал. После этого призрак растаял.
Стюардесса в нижней кухне Л-1011 разогревала еду во время полета и обнаружила, что на одной из плит горит сигнал перегрузки в цепи. Почти сразу же появился мужчина в форме бортинженера и занялся починкой. Стюардесса отвернулась и увидела входившего в отсек еще одного бортинженера, который спросил, что случилось с плитой, и стал утверждать, что он и есть бортинженер этого рейса. Первый инженер так же внезапно исчез, как и появился. По фотографии стюардесса узнала в нем Дона Репо.
Командир одного из рейсов Нью-Арк-Сан-Хуан в одном из полетов в коридоре лицом к лицу столкнулся с Репо. Тот сказал, что на Л-1011 больше никогда не будет катастроф, они этого не допустят.
Одна из пассажирок борта 318 еще на земле обратила внимание на своего соседа по креслу. Он был в форме бортинженера компании «Истерн». Что-то в его внешности насторожило пассажирку. Он выглядел бледным и больным, а когда она заговорила с ним, то он не ответил. Пассажирка позвала стюардессу. Та тоже отметила нездоровый внешний вид мужчины. Она предложила ему свою помощь, на них обратили внимание и другие пассажиры, но внезапно на глазах у всех человек в форме исчез. Все были в шоке. С пассажиркой случилась сильная истерика. Позже и она, и стюардесса по фото узнали в призраке Дона Репо.
Группа единомышленников, собравшая и проанализировавшая факты появления призраков, отметила явную тенденцию: Боб Лофт появлялся реже, а Дон Репо – чаще. Причем все случаи появления призрака бортинженера были связаны с оказанием помощи. В отличие от классических привидений, в этих не было ничего зловещего. Погибшие командир и бортинженер появлялись в виде целостных трехмерных изображений, с которыми можно было общаться.
Во избежание падения пассажиропотока, авиакомпания засекретила всю информацию, касающуюся призраков. Сведения о них стало собирать еще труднее. Но факты появления призраков множились
Грузчики компании «Мариотт», доставлявшие контейнеры с едой на борт №318, внезапно увидели на кухне давно погибшего бортинженера, который исчез у них на глазах. Рабочие в страхе разбежались.
Во время полета опять борта 318 над Эверглейдскими болотами по радиотрансляции мужской голос попросил пассажиров пристегнуть ремни и прекратить курение, но никто из экипажа такого объявления не делал, радио никто в тот момент не пользовался.
Во время рейса борта 318 из Атланты в Майами бортинженер услышал громкий стук в отсеке под ним. Он подошел к люку, открыл его, но ничего не заметил, а когда обернулся, то с удивлением увидел, что на его месте сидит Дон Репо, которого он хорошо знал. Призрак тут же исчез.
Во время предполетного обхода бортинженер лайнера Л-1011 зашел в кабину и увидел человека в такой же, как и у него, форме. Он узнал в нем Дона Репо, который произнес фразу о том, что насчет проверки тот может не беспокоиться - он уже все сделал. После этого призрак растаял.
Стюардесса в нижней кухне Л-1011 разогревала еду во время полета и обнаружила, что на одной из плит горит сигнал перегрузки в цепи. Почти сразу же появился мужчина в форме бортинженера и занялся починкой. Стюардесса отвернулась и увидела входившего в отсек еще одного бортинженера, который спросил, что случилось с плитой, и стал утверждать, что он и есть бортинженер этого рейса. Первый инженер так же внезапно исчез, как и появился. По фотографии стюардесса узнала в нем Дона Репо.
Командир одного из рейсов Нью-Арк-Сан-Хуан в одном из полетов в коридоре лицом к лицу столкнулся с Репо. Тот сказал, что на Л-1011 больше никогда не будет катастроф, они этого не допустят.
Одна из пассажирок борта 318 еще на земле обратила внимание на своего соседа по креслу. Он был в форме бортинженера компании «Истерн». Что-то в его внешности насторожило пассажирку. Он выглядел бледным и больным, а когда она заговорила с ним, то он не ответил. Пассажирка позвала стюардессу. Та тоже отметила нездоровый внешний вид мужчины. Она предложила ему свою помощь, на них обратили внимание и другие пассажиры, но внезапно на глазах у всех человек в форме исчез. Все были в шоке. С пассажиркой случилась сильная истерика. Позже и она, и стюардесса по фото узнали в призраке Дона Репо.
Группа единомышленников, собравшая и проанализировавшая факты появления призраков, отметила явную тенденцию: Боб Лофт появлялся реже, а Дон Репо – чаще. Причем все случаи появления призрака бортинженера были связаны с оказанием помощи. В отличие от классических привидений, в этих не было ничего зловещего. Погибшие командир и бортинженер появлялись в виде целостных трехмерных изображений, с которыми можно было общаться.
Во избежание падения пассажиропотока, авиакомпания засекретила всю информацию, касающуюся призраков. Сведения о них стало собирать еще труднее. Но факты появления призраков множились
"В феврале 1974 года борт 318 летел из Нью-Йорка в Мехико. В нижней кухне работала стюардесса, которая раньше была знакома с Репо, слышала истории о его появлении, но считала их выдумками. Открыв одну из кухонных дверей, она увидела смотрящее на нее лицо Дона Репо. Она тут же вскочила в подъемник и пригласила посмотреть еще одну стюардессу. Та тоже отчетливо разглядела лицо, после чего они вызвали бортинженера. Он немедленно спустился к ним. Лицо Репо было прекрасно видно, и борттехник сразу узнал его
В том же 1974 году Л-1011 совершал длинный беспосадочный полет. Когда самолет приближался к городу Феникс, одна из пассажирок, тихо сидевшая весь рейс, стала вдруг громко кричать. Оказалось, что рядом с ней в кресле внезапно возник мужчина. Как только она закричала, он тут же исчез.
Авиакомпания «ТВА» на время арендовала один из лайнеров Л-1011 у компании «Истерн». Проводя регламентные работы, механики обнаружили в кресле кабины постороннего человека. На их глазах тот исчез. Они вышли в салон и спросили о нем стюардессу, но та клялась, что никто не входил и никто из кабины не выходил. Служащие компании «ТВА» также рассказывали о появлении призрака в нижней кухне.
При изучении собранных материалов выяснился тот факт, что призраки появлялись только на самолетах серии Л-1011 и больше всего на борту №318. Чем все это было можно объяснить? В результате кропотливой работы выяснилось, что часть оборудования разбившегося №310, отремонтированная и еще пригодная для использования, была установлена на другие машины. В частности, радиоэлектронное оборудование было восстановлено, а кухонное оборудование при аварии не пострадало вообще. Именно оно и было установлено на однотипный лайнер №318, где чаще всего появлялись призраки.
Очевидно, связь между появлениям призраков и оборудованием с разбившегося самолета была установлена и руководством компании. По ее приказу все это оборудование, узлы и детали были с самолетов сняты и заменены новыми.
Однако история с призраками погибших летчиков на этом не закончилась. Энтузиасты, занимавшиеся этой проблемой, поставили перед собой задачу узнать, что побудило мертвых появляться среди живых, зачем и с какой целью. Было принято решение обратиться к медиумам и специалистам по парапсихологии. Медиумы, проанализировав собранные факты, отметили, что призрак Боба Лофта появлялся все реже и реже, пока совсем не пропал. Медиумы сочли этот факт освобождением его души от земных привязанностей. Считается, что души людей, умерших внезапной смертью, явно не осознают, что их тела мертвы. По классификации Дж.Тирелла, председателя Британского общества психических исследований, такие явления называются «кризисными призраками». Для них характерны две черты – они так походят на людей, что их нельзя различить, пока те не исчезают. И еще – они никогда не появляются там, где их ждут. Внешне они ничем не отличаются от людей, лишь их поведение напоминает поведения лунатиков. Существует множество свидетельств о речевом контакте с ними и даже непосредственном физическом прикосновении. Такие призраки имитируют нормальное восприятие окружающего мира. Они могут войти через дверь, двигаться по комнате, учитывая расстановку мебели, принимают в расчет освещение, расстояние до наблюдающего за ним человека. Порой «кризисные призраки» отражаются в зеркале. Замечательной их способностью является то, что их могут видеть несколько человек сразу. Характерно ощущение холода при встрече с ними.
Медиумы пришли к выводу о том, что в случае с призраками погибших пилотов, особенно в отношении Репо, требуется миссия по «освобождению души». Нужно вступить с призраком в контакт и помочь ему выйти из состояния неопределенности, облегчить переход в другое состояние, не связанное с земным. Душа в это время находится в замешательстве, она полагает, что еще находится в физическом теле. Необходимо помочь призраку осознать, что он уже перешел из физического состояния в духовное.
"В феврале 1974 года борт 318 летел из Нью-Йорка в Мехико. В нижней кухне работала стюардесса, которая раньше была знакома с Репо, слышала истории о его появлении, но считала их выдумками. Открыв одну из кухонных дверей, она увидела смотрящее на нее лицо Дона Репо. Она тут же вскочила в подъемник и пригласила посмотреть еще одну стюардессу. Та тоже отчетливо разглядела лицо, после чего они вызвали бортинженера. Он немедленно спустился к ним. Лицо Репо было прекрасно видно, и борттехник сразу узнал его
В том же 1974 году Л-1011 совершал длинный беспосадочный полет. Когда самолет приближался к городу Феникс, одна из пассажирок, тихо сидевшая весь рейс, стала вдруг громко кричать. Оказалось, что рядом с ней в кресле внезапно возник мужчина. Как только она закричала, он тут же исчез.
Авиакомпания «ТВА» на время арендовала один из лайнеров Л-1011 у компании «Истерн». Проводя регламентные работы, механики обнаружили в кресле кабины постороннего человека. На их глазах тот исчез. Они вышли в салон и спросили о нем стюардессу, но та клялась, что никто не входил и никто из кабины не выходил. Служащие компании «ТВА» также рассказывали о появлении призрака в нижней кухне.
При изучении собранных материалов выяснился тот факт, что призраки появлялись только на самолетах серии Л-1011 и больше всего на борту №318. Чем все это было можно объяснить? В результате кропотливой работы выяснилось, что часть оборудования разбившегося №310, отремонтированная и еще пригодная для использования, была установлена на другие машины. В частности, радиоэлектронное оборудование было восстановлено, а кухонное оборудование при аварии не пострадало вообще. Именно оно и было установлено на однотипный лайнер №318, где чаще всего появлялись призраки.
Очевидно, связь между появлениям призраков и оборудованием с разбившегося самолета была установлена и руководством компании. По ее приказу все это оборудование, узлы и детали были с самолетов сняты и заменены новыми.
Однако история с призраками погибших летчиков на этом не закончилась. Энтузиасты, занимавшиеся этой проблемой, поставили перед собой задачу узнать, что побудило мертвых появляться среди живых, зачем и с какой целью. Было принято решение обратиться к медиумам и специалистам по парапсихологии. Медиумы, проанализировав собранные факты, отметили, что призрак Боба Лофта появлялся все реже и реже, пока совсем не пропал. Медиумы сочли этот факт освобождением его души от земных привязанностей. Считается, что души людей, умерших внезапной смертью, явно не осознают, что их тела мертвы. По классификации Дж.Тирелла, председателя Британского общества психических исследований, такие явления называются «кризисными призраками». Для них характерны две черты – они так походят на людей, что их нельзя различить, пока те не исчезают. И еще – они никогда не появляются там, где их ждут. Внешне они ничем не отличаются от людей, лишь их поведение напоминает поведения лунатиков. Существует множество свидетельств о речевом контакте с ними и даже непосредственном физическом прикосновении. Такие призраки имитируют нормальное восприятие окружающего мира. Они могут войти через дверь, двигаться по комнате, учитывая расстановку мебели, принимают в расчет освещение, расстояние до наблюдающего за ним человека. Порой «кризисные призраки» отражаются в зеркале. Замечательной их способностью является то, что их могут видеть несколько человек сразу. Характерно ощущение холода при встрече с ними.
Медиумы пришли к выводу о том, что в случае с призраками погибших пилотов, особенно в отношении Репо, требуется миссия по «освобождению души». Нужно вступить с призраком в контакт и помочь ему выйти из состояния неопределенности, облегчить переход в другое состояние, не связанное с земным. Душа в это время находится в замешательстве, она полагает, что еще находится в физическом теле. Необходимо помочь призраку осознать, что он уже перешел из физического состояния в духовное.
Практически одновременно с медиумами один из служащих авиакомпании Дик Маннинг, знавший по рассказам очевидцев о призраках на борту №318, решил избавить от них этот самолет с помощью теологии. Втайне от руководства авиакомпании он поднялся на самолет и спустился в кухню, где и встретился с призраком Репо. Кухня была окроплена святой водой, призраку разъяснено, что его тело уже мертво, и дух его может удалиться в мир иной. После чего очертания призрака медленно расплылись, и он исчез.
Так независимо друг от друга усилиями медиумов и теологии появления призраков прекратились. Сверхъестественные последствия авиакатастрофы 1972 года, продолжавшиеся почти полтора года, дали много новых фактов для изучения подобных паранормальных явлений
Феномен рейса 401 еще долго будет будоражить умы любознательных людей.
косяков при ремонте;
отсутствия ремонта как такового.
Пример № 1 (серия Де Хевилленд DH.106 Комета). Собственно, первый в истории коммерческий реактивный авиалайнер. Ажно 1949 года рождения, британец. Все с ними было прекрасно, но через пять лет после начала эксплуатации лайнеры начали массово падать один за другим. Для определения причины был построен огромный бассейн с водой — моделировалось периодическое изменение разницы между внутренним и внешним давлениями воздуха (на земле разницы между ними в общем-то нет, а на высоте самолет — что воздушный шарик — раздувается изнутри, дабы паксам было чем дышать). Надо заметить, что именно поэтому самолёты наддуваются до 0,86 атмосфер, а не делаются герметичными. В результате нескольких итераций «накачать/сдуть/накачать/сдуть» испытуемый Комет успешно развалился на части. Просто это была неудачная попытка построить герметичный самолёт, чтобы анонимусы не испытывали проблем с перепадами давления, но испытали в результате экстерминатус. Исследование фюзеляжа показало, что причиной гибели пяти самолетов стали сраные заклепки на сраном окне сраного радиокомпаса. При монтаже заклепок (если этим занимаются рукожопые работяги, привыкшие в войну клепать спитфайры по принципу «да его ж всё равно через три дня собьют») в материале фюзеляжа образуются микротрещины, которые в один прекрасный момент из-за усталости металла лавинообразно переходят в огромный разлом. Именно поэтому, кстати, современные авиастроители всё активнее и активнее переходят на клей, благо и пластиков в авиации всё больше, да и клеить алюминий наконец научились как следует.
Итоги — конструкторские косяки исправили, рабочим выписали живительных пиздюлей, но репутация у машины оказалась уже подмоченной. Боинг и Дуглас с облегчением сбрасывают со счётов заокеанского конкурента и схватываются уже между собой (противостояние Б-707 и ДС-8 — это отдельная захватывающая история), а на основе дизайна «Кометы» запиливают винрарный противолодочный самолёт «Нимрод», снятый с вооружения лишь в 2011 году.
косяков при ремонте;
отсутствия ремонта как такового.
Пример № 1 (серия Де Хевилленд DH.106 Комета). Собственно, первый в истории коммерческий реактивный авиалайнер. Ажно 1949 года рождения, британец. Все с ними было прекрасно, но через пять лет после начала эксплуатации лайнеры начали массово падать один за другим. Для определения причины был построен огромный бассейн с водой — моделировалось периодическое изменение разницы между внутренним и внешним давлениями воздуха (на земле разницы между ними в общем-то нет, а на высоте самолет — что воздушный шарик — раздувается изнутри, дабы паксам было чем дышать). Надо заметить, что именно поэтому самолёты наддуваются до 0,86 атмосфер, а не делаются герметичными. В результате нескольких итераций «накачать/сдуть/накачать/сдуть» испытуемый Комет успешно развалился на части. Просто это была неудачная попытка построить герметичный самолёт, чтобы анонимусы не испытывали проблем с перепадами давления, но испытали в результате экстерминатус. Исследование фюзеляжа показало, что причиной гибели пяти самолетов стали сраные заклепки на сраном окне сраного радиокомпаса. При монтаже заклепок (если этим занимаются рукожопые работяги, привыкшие в войну клепать спитфайры по принципу «да его ж всё равно через три дня собьют») в материале фюзеляжа образуются микротрещины, которые в один прекрасный момент из-за усталости металла лавинообразно переходят в огромный разлом. Именно поэтому, кстати, современные авиастроители всё активнее и активнее переходят на клей, благо и пластиков в авиации всё больше, да и клеить алюминий наконец научились как следует.
Итоги — конструкторские косяки исправили, рабочим выписали живительных пиздюлей, но репутация у машины оказалась уже подмоченной. Боинг и Дуглас с облегчением сбрасывают со счётов заокеанского конкурента и схватываются уже между собой (противостояние Б-707 и ДС-8 — это отдельная захватывающая история), а на основе дизайна «Кометы» запиливают винрарный противолодочный самолёт «Нимрод», снятый с вооружения лишь в 2011 году.
Итоги — из 8 человек на борту, все — члены экипажа, выжило 3, тяжёлые травмы получил водитель автомобиля, который протаранило колесо шасси на Киевском шоссе. Катастрофа получила широкий резонанс в том числе и потому, что момент выкатывания Ту-204 был зафиксирован видеорегистратором одного из водителей, ехавшего в тот момент на дачу в предвкушении новогоднего бухалова. Видео было оперативно выложено на ТыТуб. Огромный крылатый монстр, на бешеной скорости прошибающий стену и разлетающийся на куски на глазах у ничего не подозревающих пиплов — зрелище не для слабонервных.

Спасибо, не удивлен.
Ты про кого?

Это ты здесь залетный, я с самого начала здесь был, так что иди как ты нахер, анончик.

Анус своя помяни, пес
Командир: Илья, сирену выключи…
Штурман: Курс обратный посадочный…
Диспетчер: 656-й! Посадку разрешаю! Снижайтесь до 900.
Диспетчер: 656-й! Пожар какого двигателя?
Командир: Пожар второго двигателя! И правого…
Бортинженер: Давление в первой гидросистеме упало!…
Второй пилот: Выпускаем шасси!…
Командир: Шасси не выпускается ни х… Да не выпускается же! От второй гидросистемы давай!
Бортинженер: Да нету же давления!
Второй пилот: У нас упало давление в обеих гидросистемах!
Диспетчер: 656-й, понял! Удаление где ваше?
Штурман: 400 метров.
Командир: Ребята, не управляется! Самолет не управляется!
Диспетчер: Ниже глиссады идете! (Сработала аварийная сирена.) Работайте с посадкой!
Конец записи.
Второй пилот: 480, понял.
Диспетчер: Снижайтесь. Выше глиссады, 480. Удаление 3, правее 10.
Диспетчер: Выше глиссады 20 м, 480, правее 10.
Второй пилот: 480, понял.
Диспетчер: Удаление 2, правее 20.
Диспетчер: Правее 10, на глиссаде.
Диспетчер: Резко не снижайтесь, ниже 10.
Штурман: Оценка-а-а!
Командир ВС: Держать по приборам.
Штурман: Решение!
Диспетчер: Без снижения! Без снижения следуйте, 480, прекратите снижение!
Второй пилот: П...ц!
Командир ВС: Всем взлетный!
Б/механик: Взлетный.
Диспетчер: На второй круг уходите!
Командир ВС: Убрать шасси! П...ц нам.
До катастрофы - чуть более 2 минут. Экипаж обнаружил резкий крен самолета влево.
Штурман: Крен!
Командир: Чего, б...? Куда!
Штурман: Крен! Крен! Крен! Крен!..
Звуковая сигнализация превышения скорости.
Штурман: Крен велик!
Командир: Убавь крен!
Штурман: Скорость большая!
Командир: Крен выправляй!
Командир: Твою мать! Ну где мы сидим! Первая система!
Штурман: Да крен! Не видишь, что ли?
Командир: Куда крен?
Бортинженер: Скорость! Скорость!
Командир: Крен выправляй! Не торопись! Потихоньку!
Сигнал превышения угла атаки.
Штурман: Высота-а-а-а-а!
Командир: Все, б... П...ц!
Конец записи.
16.58.07 штурман: — 845,5700, Раздолье
16.58.10 диспетчер: — 845 Раздолье подтвердил, 5700 с подходом 125,2
16.58.15 штурман: — 125,2
16.58.21 командир корабля: — Хорошо
16.58.22 командир корабля: — Иркутск-подход 85845, доброй ночи. Раздолье 5700, информация ЭКСРЕЙ
16.58.32 диспетчер: — 85545, Иркутск-подход 85845, доброй ночи, прямой 282 градуса, удаление 80 километров, к третьему левым, снижайтесь 2700
16.58.42 командир корабля: — 845, к третьему снижаюсь 2700
16.59.25 командир корабля: — Нормально идем
16.59.35 командир корабля: — 550 метров у нас уберется
16.59.45 кто-то из экипажа: — …. (нрзб)
16.59.46 командир корабля: — До третьего
16.59.48 кто-то из экипажа: — (нрзб)
17.01.04 командир корабля: — Еще подтягивать придется
17.01.42 командир корабля: — Юра, включи обогревы ВНА
17.01.43 бортинженер: — Включен
17.01.55 диспетчер: — 845, удаление 40, снижайтесь 2100
17.01.58 2-й пилот: — 2100
17.01.59 командир корабля: — 845 снижаюсь 2100
17.02.29 кто-то из экипажа: — (нрзб)
17.02.59 командир корабля: — Мы дома, снижаемся, с прямой заходим, такая высота, проходим по Дагес, а здесь мы еще 550 м. Сбросим…. Дагес — перевыставляем высотомер
17.04.09 диспетчер: — 845, последнюю информацию Янки прослушайте
17.04.13 командир корабля: — Понял, хорошо, слушаю
17.04.17 кто-то из экипажа: — Ты мне, да?
17.04.21 АТИС …миллиметров, 947, ГПА без существенных изменений, получение информации Янки подтвердите
17.04.43 командир корабля: — Коля, послушай, а я сейчас с ним отработаю
17.04.45 штурман: — Слушаю
17.04.49 командир корабля: — 845, 2100
17.04.52 диспетчер: — 845. Система захода?
17.04.55 командир корабля: — Заход директорный, информация Янки, давление 7-10
17.05.02 диспетчер: — 845, заход разрешаю, снижайтесь 900 к третьему по давлению 7-10 мм
17.05.08 командир корабля: — 845. К третьему снижаюсь 900, давление 7-10
17.05.14 диспетчер: — 845, траверз полосы проходите, 11 километров боковое
17.05.18 командир корабля: — Да, визуально наблюдаю. Принял
17.05.28 2-й пилот: — Юра, чисто. Его можно вырубить! Посмотрим там
17.05.29 командир корабля: — Да он работает
17.05.32 штурман: — Я рассчитываю 20 километров
17.05.34 командир корабля: — Хорошо
17.05.36 штурман: — Сейчас давление поставим 7-10
17.05.43 командир корабля: — Полностью вываливай и гаси скорость, гаси скорость
17.05.44 кто-то из экипажа: — Гаси, гаси
17.05.47 командир корабля: — Выставляем давление 7-10
17.05.48 2-й пилот: — 7-10
17.05.49 кто-то из экипажа: — 7-10
17.05.55 командир корабля: — 845, на 1800, 7-10 давление установлено, контрольная 1250, снижаюсь 900
17.06.01 диспетчер: — 845, понял
17.06.03 штурман: — 150 до заданной
17.06.04 2-й пилот: — Да
17.06.05 командир корабля: — Гаси, гаси скорость
17.06.05,5 2-й пилот: — Гашу, гашу
17.06.06 штурман: — Механизацию смотри
17.06.08 командир корабля: — Нам 100 метров до заданной
17.06.09 2-й пилот: — Да, 100 метров
17.06.10 штурман: — (нрзб километров)
17.06.13 командир корабля: — Ты 8 поставил, у тебя скорость и выскочит
17.06.17 командир корабля: — Вот и вошли в облачность, Юра
17.06.20 командир корабля: — Смотри, температура какая
17.06.21 штурман: — Дают 290 градусов — 5,14 градуса, 710 CAVOC
17.06.25 командир корабля: — Хорошо
17.06.26 командир корабля: — Так, подключаем и …
17.06.28 2-й пилот: — Загорелось?
17.06.30 штурман: — нрзб да работает
17.06.32 командир корабля: — Сколько осталось километров?
17.06.34 штурман: — 8 километров
17.06.34,5 2-й пилот: — 8
17.06.35 командир корабля: — Хорошо
17.06.56 командир корабля: — Вот так вот берем, ……. Застабилизировал высоту
17.06.58 2-й пилот: — Хорошо
17.07.02 2-й пилот: — 400 километров
17.07.03 командир корабля: — Руль хорошо, шасси выпустить
17.07.06 2-й пилот: — Выпускаю
17.07.08 бортинженер: — Шасси выпускаются
17.07.10 2-й пилот: — Шасси нрзб РВ нрзб
17.07.12 диспетчер: — 845, выполняйте третий, снижайтесь 850 метров к четвертому
17.07.17 командир корабля: — 845, снижаюсь к четвертому, 850
17.07.21 бортинженер: — Шасси выпущены
17.07.23 командир корабля: — Так, скорость падает….
17.07.25 командир корабля: — Снижаемся
17.07.27 командир корабля: — 850, режим 70
17.07.29 бортинженер: — 70
17.07.30 командир корабля: — 350—360 скорость выдерживаем
16.58.07 штурман: — 845,5700, Раздолье
16.58.10 диспетчер: — 845 Раздолье подтвердил, 5700 с подходом 125,2
16.58.15 штурман: — 125,2
16.58.21 командир корабля: — Хорошо
16.58.22 командир корабля: — Иркутск-подход 85845, доброй ночи. Раздолье 5700, информация ЭКСРЕЙ
16.58.32 диспетчер: — 85545, Иркутск-подход 85845, доброй ночи, прямой 282 градуса, удаление 80 километров, к третьему левым, снижайтесь 2700
16.58.42 командир корабля: — 845, к третьему снижаюсь 2700
16.59.25 командир корабля: — Нормально идем
16.59.35 командир корабля: — 550 метров у нас уберется
16.59.45 кто-то из экипажа: — …. (нрзб)
16.59.46 командир корабля: — До третьего
16.59.48 кто-то из экипажа: — (нрзб)
17.01.04 командир корабля: — Еще подтягивать придется
17.01.42 командир корабля: — Юра, включи обогревы ВНА
17.01.43 бортинженер: — Включен
17.01.55 диспетчер: — 845, удаление 40, снижайтесь 2100
17.01.58 2-й пилот: — 2100
17.01.59 командир корабля: — 845 снижаюсь 2100
17.02.29 кто-то из экипажа: — (нрзб)
17.02.59 командир корабля: — Мы дома, снижаемся, с прямой заходим, такая высота, проходим по Дагес, а здесь мы еще 550 м. Сбросим…. Дагес — перевыставляем высотомер
17.04.09 диспетчер: — 845, последнюю информацию Янки прослушайте
17.04.13 командир корабля: — Понял, хорошо, слушаю
17.04.17 кто-то из экипажа: — Ты мне, да?
17.04.21 АТИС …миллиметров, 947, ГПА без существенных изменений, получение информации Янки подтвердите
17.04.43 командир корабля: — Коля, послушай, а я сейчас с ним отработаю
17.04.45 штурман: — Слушаю
17.04.49 командир корабля: — 845, 2100
17.04.52 диспетчер: — 845. Система захода?
17.04.55 командир корабля: — Заход директорный, информация Янки, давление 7-10
17.05.02 диспетчер: — 845, заход разрешаю, снижайтесь 900 к третьему по давлению 7-10 мм
17.05.08 командир корабля: — 845. К третьему снижаюсь 900, давление 7-10
17.05.14 диспетчер: — 845, траверз полосы проходите, 11 километров боковое
17.05.18 командир корабля: — Да, визуально наблюдаю. Принял
17.05.28 2-й пилот: — Юра, чисто. Его можно вырубить! Посмотрим там
17.05.29 командир корабля: — Да он работает
17.05.32 штурман: — Я рассчитываю 20 километров
17.05.34 командир корабля: — Хорошо
17.05.36 штурман: — Сейчас давление поставим 7-10
17.05.43 командир корабля: — Полностью вываливай и гаси скорость, гаси скорость
17.05.44 кто-то из экипажа: — Гаси, гаси
17.05.47 командир корабля: — Выставляем давление 7-10
17.05.48 2-й пилот: — 7-10
17.05.49 кто-то из экипажа: — 7-10
17.05.55 командир корабля: — 845, на 1800, 7-10 давление установлено, контрольная 1250, снижаюсь 900
17.06.01 диспетчер: — 845, понял
17.06.03 штурман: — 150 до заданной
17.06.04 2-й пилот: — Да
17.06.05 командир корабля: — Гаси, гаси скорость
17.06.05,5 2-й пилот: — Гашу, гашу
17.06.06 штурман: — Механизацию смотри
17.06.08 командир корабля: — Нам 100 метров до заданной
17.06.09 2-й пилот: — Да, 100 метров
17.06.10 штурман: — (нрзб километров)
17.06.13 командир корабля: — Ты 8 поставил, у тебя скорость и выскочит
17.06.17 командир корабля: — Вот и вошли в облачность, Юра
17.06.20 командир корабля: — Смотри, температура какая
17.06.21 штурман: — Дают 290 градусов — 5,14 градуса, 710 CAVOC
17.06.25 командир корабля: — Хорошо
17.06.26 командир корабля: — Так, подключаем и …
17.06.28 2-й пилот: — Загорелось?
17.06.30 штурман: — нрзб да работает
17.06.32 командир корабля: — Сколько осталось километров?
17.06.34 штурман: — 8 километров
17.06.34,5 2-й пилот: — 8
17.06.35 командир корабля: — Хорошо
17.06.56 командир корабля: — Вот так вот берем, ……. Застабилизировал высоту
17.06.58 2-й пилот: — Хорошо
17.07.02 2-й пилот: — 400 километров
17.07.03 командир корабля: — Руль хорошо, шасси выпустить
17.07.06 2-й пилот: — Выпускаю
17.07.08 бортинженер: — Шасси выпускаются
17.07.10 2-й пилот: — Шасси нрзб РВ нрзб
17.07.12 диспетчер: — 845, выполняйте третий, снижайтесь 850 метров к четвертому
17.07.17 командир корабля: — 845, снижаюсь к четвертому, 850
17.07.21 бортинженер: — Шасси выпущены
17.07.23 командир корабля: — Так, скорость падает….
17.07.25 командир корабля: — Снижаемся
17.07.27 командир корабля: — 850, режим 70
17.07.29 бортинженер: — 70
17.07.30 командир корабля: — 350—360 скорость выдерживаем
17.08.09,5 2-й пилот: — Взлетный режим! Господи!
17.08.10,5 борт инженер: — Взлетный!
17.08.11,5 кто-то из экипажа — Эх, все, пиздец!
17.08.16 звуковая сигнализация задатчика РВ (длит. 6 сек.)
Конец записи…
-50 сек. (Время, оставшееся до столкновения) Tupolev, TCAS: «Traffic, traffic». (Конфликтный борт, конфликтный борт.)
-45 сек. Цюрих-Юг: ВТС2937 … снижайтесь, эшелон полета … 350, ускорьте, у меня пересекающий борт.
-40 сек. Эк: Снижаемся.
-38 сек. Boeing, TCAS: «Descend, descend!» (Снижайся, снижайся!)
-35 сек. Tupolev, TCAS: «Climb, climb!» (Набрать высоту, набрать высоту!)
-34 сек. Tupolev, М.Иткулов: Клайм, говорит!
-32 сек. Эк: Снижайся, блядь!
-30 сек. Цюрих-Юг: ВТС2937, снижайтесь, эшелон полета 350, ускорьте снижение.
-25 сек. ВТС2937: Ускоряю снижение до эшелона 350, ВТС2937.
-20 сек. Цюрих-Юг: Да, у нас борт, вам под два часа, сейчас на 360.
-19 сек. Boeing: сигнализация, TCAS «Increase descent, increase descent!» (Ускорить снижение, ускорить снижение!)
-13,3 сек. Boeing, ЭК: 611, TCAS-descent.
-11 сек. Эк: Блядь, где он?
-9,5 сек. Tupolev TCAS: «Increase climb, increase climb!» (Ускорить набор высоты, ускорить набор высоты)
-5,3 сек. Эк: Клайм, он говорит!
-3,8 сек. Boeing, ЭК: (Ругань.)
-1,8 сек. Эк: (Ругань.)
0 сек. — 1 час. 35 мин. 55 сек. московского времени. IMPACT. (Столкновение. Очевидно, что Ту-154 догнал Boeing и «сел» на него.
11:38:00 КВС Е мое
11:38:02 Э Брось это делать
11:38:04 КВС Крутите вправо
11:38:05 Э 2000
11:38:05 Э Вертикальная
11:38:07 ШТ Так влево, влево (нрзб)
11:38:08 ШТ У нас 2 тысячи, Вань
11:38:09 Э Я не видел
11:38:09 2П Боже мой
11:38:10 ШТ 2000, Вань
11:38:11 Э Без крена
11:38:11 КВС На себя, на себя, на себя, на себя, на себя. Андрюха тяни на себя. Андрюха тяни на себя. А себя, Андрюха теперь (нрзб)
11:38:18 Э (Взлетный режим давай)
11:38:20 КВС Режим взлетный
11:38:21 Э Левая нога, крен убери
11:38:23 2П-ст (нрзб) (Не убивайте)
11:38:23 КВС Андрюха, не паникуй!
11:38:25 Э Не убивайте, Ну, не убивайте.
11:38:27 КВС (Земля)
11:38:28 Э (нрзб)
11:38:29 Крик
11:38:29 Конец записи.
За витрины голубым стеклом
Тихо плачет манекен бесполый
Кукла с человеческим лицом
Просит одинокими ночами
Просит он у неба одного:
Чтоб огонь от искры изначальной
Разгорелся в сердце у него
Чтобы было сладко
Чтобы было больно
Чтобы каяться потом
Вот и плачет манекен бесполый
Кукла с человеческим лицом
Станет он Перекати-поле
Станет ждать, чтоб жар надежды стих
Чтоб одну стеклянную неволю
Разменять на тысячу других
А пока он тишиною скован
За витрины голубым стеклом
Тихо плачет манекен бесполый
Кукла с человеческим лицом
Ничего, что твой не долог век
Лишь бы Солнцем утренним украшен
Ты бы шел легко себе по свету
И светло и ничего не ранит
Ровно все для сердца твоего
Оттого идешь как чужестранец
Чужестранец - только и всего
Ничего, что небо позабыло,
Как ночами освещать наш путь
Ничего, вдруг все еще вернется,
Вдруг вернется все когда-нибудь
Иногда покажется: как странно,
Ни о чем особо не жалея,
Быть везде и всюду чужестранцем
Вечным чужестранцем на Земле
Моя резная
Бок о бок по земле идем
Себя не зная
Очень.Я ведь ничего такого сделать не хотел, просто любоваться ею.
Ну а тред тебе зачем?
Так и любуйся, зачем тебе треды?
С ним все хорошо было?
Анон, любуйся сам, если тебе она так понравилась, зачем тебе тред тогда? Все равно здесь нет нормального обсуждения.
А представь как ей это все читать? Сколько времени уже продолжается.
Слышу и чувствую вновь
Каждый твой вздох, каждый шаг.
«Почему?» - спросишь. «Почему так?»
Ведь одной цепи мы звенья,
Через раз опять дышу,
Одного прикосновенья
Небывалого прошу.
Видишь, вокруг ни души.
Сердце сгорает в тиши.
Жарко и сладко ему.
Почему так? Так почему?
Ведь одной цепи мы звенья,
Через раз опять дышу,
Одного прикосновенья
Небывалого прошу.
Светлая, светлая грусть
Вновь от себя не отпустит.
Что с нами, сам не пойму
Почему так? Так почему?
Не надеясь на себя,
Смотрит в небо человек.
Только небо далеко
Тонет в сумрачных волнах.
И поэтому легко
Знать, что все лишь пыль и прах...
Замри на мгновенье,
Ведь путь без конца.
Пусть свет изумленья
Не сходит с лица,
Пусть манит иное
Среди миражей,
Пусть ранит и ноет
Упрямо в душе.
Подожди еще чуть-чуть:
Вспыхнет радуга во мне,
Может быть, и полечу
С облаками на заре...
Замри на мгновенье,
Ведь путь без конца.
Пусть свет изумленья
Нисходит с лица,
Пусть манит иное
Среди миражей,
Пусть ранит и ноет
Упрямо в душе.
Замри на мгновенье,
Ведь путь без конца.
Пусть свет изумленья
Нисходит с лица,
Пусть манит иное
Среди миражей,
Пусть ранит и ноет
Упрямо в душе...
Не надеясь на себя,
Смотрит в небо человек.
Только небо далеко
Тонет в сумрачных волнах.
И поэтому легко
Знать, что все лишь пыль и прах...
Замри на мгновенье,
Ведь путь без конца.
Пусть свет изумленья
Не сходит с лица,
Пусть манит иное
Среди миражей,
Пусть ранит и ноет
Упрямо в душе.
Подожди еще чуть-чуть:
Вспыхнет радуга во мне,
Может быть, и полечу
С облаками на заре...
Замри на мгновенье,
Ведь путь без конца.
Пусть свет изумленья
Нисходит с лица,
Пусть манит иное
Среди миражей,
Пусть ранит и ноет
Упрямо в душе.
Замри на мгновенье,
Ведь путь без конца.
Пусть свет изумленья
Нисходит с лица,
Пусть манит иное
Среди миражей,
Пусть ранит и ноет
Упрямо в душе...
Быть может все строже,
Все строже с тобою
Судьба.
И розовый куст
Расцветает не каждой весной.
И все же, пока дышат звезды
Над головой.
Открой свое сердце для счастья, открой.
Открой свое сердце для счастья, открой.
Круг все тесней - будь навсегда
Не меркнет звезда, сколько б ни ждать,
И время замрет - будь навсегда
Неведомый путь, не познана даль
Ну да и пусть - будь навсегда
Ветру времен имя отдать -
Будь навсегда, будь навсегда!
Как много картонных мечей.
И я сегодня так странно одет.
Я излучаю таинственный свет.
Не спрашивай "это зачем?", "это зачем?"
Мы прячем от света лицо
Мы верим - никто не узнал.
Я закрою свой голос хрустальным ключом.
Не спрашивай только меня ни о чем.
Пускай продолжается бал, продолжается бал.
Ты - Королева Ночи,
я - Господин Никто
Когда сойдутся две темноты,
Настанет рассвет.
А потом...

За пижоном пижон,
Прочь с дороги,
Из сердца вон.
Это твой город -
Изловчись или сгинь,
Вокруг глаз закрытых
Площадей круги.
Позовут миражи -
Побежишь и обманешься.
Жизнь придет и уйдет -
Ты останешься.
Это твой город -
За пижоном пижон,
А ты один, как будто -
В себя погружен.
Это твой город -
Продаст ни за грош,
Идешь на ощупь
И мир узнаёшь.
Позовут миражи -
Побежишь и обманешься.
Жизнь придет и уйдет -
Ты останешься.
Это твой город -
За пижоном пижон,
Долго ли, скоро ли -
Исчезнет он.
Это твой город -
Ближе неба асфальт,
Что еще проще,
Чем взять и упасть?
Позовут миражи,
Позовут миражи.
Это твой город -
За пижоном пижон,
Лабиринтами улиц
Опять окружен
Это твой город -
Пыль и зной,
Беги, пока слышишь
Шаги за спиной,
Шаги за спиной.
За пижоном пижон,
Прочь с дороги,
Из сердца вон.
Это твой город -
Изловчись или сгинь,
Вокруг глаз закрытых
Площадей круги.
Позовут миражи -
Побежишь и обманешься.
Жизнь придет и уйдет -
Ты останешься.
Это твой город -
За пижоном пижон,
А ты один, как будто -
В себя погружен.
Это твой город -
Продаст ни за грош,
Идешь на ощупь
И мир узнаёшь.
Позовут миражи -
Побежишь и обманешься.
Жизнь придет и уйдет -
Ты останешься.
Это твой город -
За пижоном пижон,
Долго ли, скоро ли -
Исчезнет он.
Это твой город -
Ближе неба асфальт,
Что еще проще,
Чем взять и упасть?
Позовут миражи,
Позовут миражи.
Это твой город -
За пижоном пижон,
Лабиринтами улиц
Опять окружен
Это твой город -
Пыль и зной,
Беги, пока слышишь
Шаги за спиной,
Шаги за спиной.
И ангел явился,
Он имя твое назовет,
А где-то в далеком небе
Звезда Декаданс плывет.
Поют тебе песни
И весь мир чудес
Тебя с нетерпением ждет.
А где-то в далеком небе
Звезда Декаданс плывет.
Ты выучил буквы,
И дом твой не кукольный,
Здесь все своей жизнью живет.
А где-то в далеком небе
Звезда Декаданс плывет.
И вот твоим сердцем
Весна уже вертит,
И жалит его и жжет.
А где-то в далеком небе
Звезда Декаданс плывет.
Да что эта осень
Явилась без спросу,
И желтый ведет хоровод.
А где-то в далеком небе
Звезда Декаданс плывет.
И вот уже иней
Холодным и синим
Раскрашивает небосвод.
А где-то в далеком небе
Звезда Декаданс плывет.
А было ли чудо,
А было ли счастье -
Ответа никто не ждет.
Лишь где-то в далеком небе
Звезда Декаданс плывет.
И ангел явился,
Он имя твое назовет,
А где-то в далеком небе
Звезда Декаданс плывет.
Поют тебе песни
И весь мир чудес
Тебя с нетерпением ждет.
А где-то в далеком небе
Звезда Декаданс плывет.
Ты выучил буквы,
И дом твой не кукольный,
Здесь все своей жизнью живет.
А где-то в далеком небе
Звезда Декаданс плывет.
И вот твоим сердцем
Весна уже вертит,
И жалит его и жжет.
А где-то в далеком небе
Звезда Декаданс плывет.
Да что эта осень
Явилась без спросу,
И желтый ведет хоровод.
А где-то в далеком небе
Звезда Декаданс плывет.
И вот уже иней
Холодным и синим
Раскрашивает небосвод.
А где-то в далеком небе
Звезда Декаданс плывет.
А было ли чудо,
А было ли счастье -
Ответа никто не ждет.
Лишь где-то в далеком небе
Звезда Декаданс плывет.
Марсианские хроники
МОЕЙ ЖЕНЕ МАРГАРЕТ С ИСКРЕННЕЙ ЛЮБОВЬЮ
"Великое дело — способность удивляться, — сказал философ. —
Космические полеты снова сделали всех нас детьми".
Январь 1999.
Ракетное лето
Только что была огайская зима: двери заперты, окна закрыты, стекла незрячие от изморози, все крыши оторочены сосульками, дети мчатся с горок на лыжах, женщины в шубах черными медведицами бредут по гололедным улицам.
И вдруг могучая волна тепла прокатилась по городку, вал горячего воздуха захлестнул его, будто нечаянно оставили открытой дверь пекарни. Зной омывал дома, кусты, детей. Сосульки срывались с крыш, разбивались и таяли. Двери распахнулись. Окна раскрылись. Дети скинули свитера. Мамаши сбросили медвежье обличье. Снег испарился, и на газонах показалась прошлогодняя жухлая трава.
Ракетное лето. Из уст в уста с ветром из дома в открытый дом — два слова: Ракетное лето. Жаркий, как дыхание пустыни, воздух переиначивал морозные узоры на окнах, слизывал хрупкие кружева. Лыжи и санки вдруг стали не нужны. Снег, падавший на городок с холодного неба, превращался в горячий дождь, не долетев до земли.
Ракетное лето. Высунувшись с веранд под дробную капель, люди смотрели вверх на алеющее небо.
Ракета стояла на космодроме, испуская розовые клубы огня и печного жара. В стуже зимнего утра ракета творила лето каждым выдохом своих мощных дюз. Ракета делала погоду, и на короткий миг во всей округе воцарилось лето…
Февраль 1999.
Илла
Они жили на планете Марс, в доме с хрустальными колоннами, на берегу высохшего моря, и по утрам можно было видеть, как миссис К ест золотые плоды, растущие из хрустальных стен, или наводит чистоту, рассыпая пригоршнями магнитную пыль, которую горячий ветер уносил вместе с сором. Под вечер, когда древнее море было недвижно и знойно, и винные деревья во дворе стояли в оцепенении, и старинный марсианский городок вдали весь уходил в себя и никто не выходил на улицу, мистера К можно было видеть в его комнате, где он читал металлическую книгу, перебирая пальцами выпуклые иероглифы, точно струны арфы. И книга пела под его рукой, певучий голос древности повествовал о той поре, когда море алым туманом застилало берега и древние шли на битву, вооруженные роями металлических шершней и электрических пауков.
Мистер и миссис К двадцать лет прожили на берегу мертвого моря, и их отцы и деды тоже жили в этом доме, который поворачивался, подобно цветку, вслед за солнцем, вот уже десять веков.
Мистер и миссис К были еще совсем не старые. У них была чистая, смуглая кожа настоящих марсиан, глаза желтые, как золотые монеты, тихие мелодичные голоса. Прежде они любили писать картины химическим пламенем, любили плавать в каналах в то время года, когда винные деревья наполняли их зеленой влагой, а потом до рассвета разговаривать под голубыми светящимися портретами в комнате для бесед.
Теперь они уже не были счастливы.
В то утро миссис К, словно вылепленная из желтого воска, стояла между колоннами, прислушиваясь к зною бесплодных песков, устремленная куда-то вдаль.
Что-то должно было произойти.
Она ждала.
Она смотрела на голубое марсианское небо так, словно оно могло вот-вот поднатужиться, сжаться и исторгнуть на песок сверкающее чудо.
Но все оставалось по-прежнему.
Истомившись ожиданием, она стала бродить между туманными колоннами. Из желобков в капителях заструился тихий дождь, охлаждая раскаленный воздух, гладя ее кожу. В жаркие дни это было все равно что войти в ручей. Прохладные струи посеребрили полы. Слышно было, как муж без устали играет на своей книге; древние напевы не приедались его пальцам.
Она подумала без волнения: он бы мог когда-нибудь подарить и ей, как бывало прежде, столько же времени, обнимая ее, прикасаясь к ней, словно к маленькой арфе, как он прикасается к своим невозможным книгам.
Увы. Она покачала головой, отрешенно пожала плечами, чуть-чуть. Веки мягко прикрыли золотистые глаза. Брак даже молодых людей делает старыми, давно знакомыми…
Она опустилась в кресло, которое тотчас само приняло форму ее фигуры. Она крепко, нервно зажмурилась.
И сон явился.
Смуглые пальцы вздрогнули, метнулись вверх, ловя воздух. Мгновение спустя она испуганно выпрямилась в кресле, прерывисто дыша.
Она быстро обвела комнату взглядом, точно надеясь кого-то увидеть. Разочарование: между колоннами было пусто.
В треугольной двери показался ее супруг.
— Ты звала меня? — раздраженно спросил он.
— Нет! — почти крикнула она.
— Мне почудилось, ты кричала.
— В самом деле? Я задремала и видела сон!
— Днем? Это с тобой не часто бывает.
Глаза ее говорили о том, что она ошеломлена сновидением.
— Странно, очень-очень странно, — пробормотала она. — Этот сон…
— Ну? — Ему явно не терпелось вернуться к книге.
— Мне снился мужчина.
— Мужчина?
— Высокий мужчина, шесть футов один дюйм.
Илла
Они жили на планете Марс, в доме с хрустальными колоннами, на берегу высохшего моря, и по утрам можно было видеть, как миссис К ест золотые плоды, растущие из хрустальных стен, или наводит чистоту, рассыпая пригоршнями магнитную пыль, которую горячий ветер уносил вместе с сором. Под вечер, когда древнее море было недвижно и знойно, и винные деревья во дворе стояли в оцепенении, и старинный марсианский городок вдали весь уходил в себя и никто не выходил на улицу, мистера К можно было видеть в его комнате, где он читал металлическую книгу, перебирая пальцами выпуклые иероглифы, точно струны арфы. И книга пела под его рукой, певучий голос древности повествовал о той поре, когда море алым туманом застилало берега и древние шли на битву, вооруженные роями металлических шершней и электрических пауков.
Мистер и миссис К двадцать лет прожили на берегу мертвого моря, и их отцы и деды тоже жили в этом доме, который поворачивался, подобно цветку, вслед за солнцем, вот уже десять веков.
Мистер и миссис К были еще совсем не старые. У них была чистая, смуглая кожа настоящих марсиан, глаза желтые, как золотые монеты, тихие мелодичные голоса. Прежде они любили писать картины химическим пламенем, любили плавать в каналах в то время года, когда винные деревья наполняли их зеленой влагой, а потом до рассвета разговаривать под голубыми светящимися портретами в комнате для бесед.
Теперь они уже не были счастливы.
В то утро миссис К, словно вылепленная из желтого воска, стояла между колоннами, прислушиваясь к зною бесплодных песков, устремленная куда-то вдаль.
Что-то должно было произойти.
Она ждала.
Она смотрела на голубое марсианское небо так, словно оно могло вот-вот поднатужиться, сжаться и исторгнуть на песок сверкающее чудо.
Но все оставалось по-прежнему.
Истомившись ожиданием, она стала бродить между туманными колоннами. Из желобков в капителях заструился тихий дождь, охлаждая раскаленный воздух, гладя ее кожу. В жаркие дни это было все равно что войти в ручей. Прохладные струи посеребрили полы. Слышно было, как муж без устали играет на своей книге; древние напевы не приедались его пальцам.
Она подумала без волнения: он бы мог когда-нибудь подарить и ей, как бывало прежде, столько же времени, обнимая ее, прикасаясь к ней, словно к маленькой арфе, как он прикасается к своим невозможным книгам.
Увы. Она покачала головой, отрешенно пожала плечами, чуть-чуть. Веки мягко прикрыли золотистые глаза. Брак даже молодых людей делает старыми, давно знакомыми…
Она опустилась в кресло, которое тотчас само приняло форму ее фигуры. Она крепко, нервно зажмурилась.
И сон явился.
Смуглые пальцы вздрогнули, метнулись вверх, ловя воздух. Мгновение спустя она испуганно выпрямилась в кресле, прерывисто дыша.
Она быстро обвела комнату взглядом, точно надеясь кого-то увидеть. Разочарование: между колоннами было пусто.
В треугольной двери показался ее супруг.
— Ты звала меня? — раздраженно спросил он.
— Нет! — почти крикнула она.
— Мне почудилось, ты кричала.
— В самом деле? Я задремала и видела сон!
— Днем? Это с тобой не часто бывает.
Глаза ее говорили о том, что она ошеломлена сновидением.
— Странно, очень-очень странно, — пробормотала она. — Этот сон…
— Ну? — Ему явно не терпелось вернуться к книге.
— Мне снился мужчина.
— Мужчина?
— Высокий мужчина, шесть футов один дюйм.
Летняя ночь
Люди стояли кучками в каменных галереях, растворяясь в тени между голубыми холмами. Звезды и лучезарные марсианские луны струили на них мягкий вечерний свет. Позади мраморного амфитеатра, скрытые мраком и далью, раскинулись городки и виллы, серебром отливали недвижные пруды, от горизонта до горизонта блестели каналы. Летний вечер на Марсе, планете безмятежности и умеренности. По зеленой влаге каналов скользили лодки, изящные, как бронзовые цветки. В нескончаемо длинных рядах жилищ, извивающихся по склонам, подобно оцепеневшим змеям, в прохладных ночных постелях лениво перешептывались возлюбленные. Под факелами на аллеях, держа в руках извергающих тончайшую паутину золотых пауков, еще бегали заигравшиеся дети. Тут и там на столах, булькающих серебристой лавой, готовился поздний ужин. В амфитеатрах сотен городов на ночной стороне Марса смуглые марсиане с глазами цвета червонного золота собирались на досуге вокруг эстрад, откуда покорные музыкантам тихие мелодии, подобно аромату цветов, плыли в притихшем воздухе.
На одной эстраде пела женщина.
По рядам слушателей пробежал шелест.
Пение оборвалось. Певица поднесла руку к горлу.
Потом кивнула музыкантам, они начали сначала.
Музыканты заиграли, она снова запела; на этот раз публика ахнула, подалась вперед, кто-то вскочил на ноги — на амфитеатр словно пахнуло зимней стужей. Потому что песня, которую пела женщина, была странная, страшная, необычная. Она пыталась остановить слова, срывающиеся с ее губ, но они продолжали звучать:
Идет, блистая красотой
Тысячезвездной ясной ночи
В соревнованьи света с тьмой
Изваяны чело и очи.
Руки певицы метнулись ко рту. Она оцепенела, растерянная.
— Что это за слова? — недоумевали музыканты.
— Что за песня?
— Чей язык?
Когда же они опять принялись дуть в свои золотые трубы, снова родилась эта странная музыка и медленно поплыла над публикой, которая теперь громко разговаривала, поднимаясь со своих мест.
— Что с тобой? — спрашивали друг друга музыканты.
— Что за мелодию ты играл?
— А ты сам что играл?
Женщина расплакалась и убежала с эстрады. Публика покинула амфитеатр. Повсюду, во всех смятенных марсианских городах, происходило одно и то же. Холод объял их, точно с неба пал белый снег.
В темных аллеях под факелами дети пели:
…Пришла, а шкаф уже пустой,
Остался песик с носом!
— Дети! — раздавались голоса. — Что это за песенка? Где вы ее выучили?
— Она просто пришла нам в голову, ни с того ни с сего. Какие-то непонятные слова!
Захлопали двери. Улицы опустели. Над голубыми холмами взошла зеленая звезда.
На всей ночной стороне Марса мужчины просыпались от того, что лежавшие рядом возлюбленные напевали во мраке.
— Что это за мелодия?
В тысячах жилищ среди ночи женщины просыпались, обливаясь слезами, и приходилось их утешать:
— Ну, успокойся, успокойся же. Спи. — Ну, что случилось? Дурной сон?
— Завтра произойдет что-то ужасное.
— Ничего не может произойти, у нас все в порядке. Судорожное всхлипывание.
— Я чувствую, это надвигается все ближе, ближе, ближе!..
— С нами ничего не может случиться. Полно! Спи. Спи…
Тихо на предутреннем Марсе, тихо, как в черном студеном колодце, и свет звезд на воде каналов, и в каждой комнате дыхание свернувшихся калачиком детей с зажатыми в кулачках золотыми пауками, и возлюбленные спят рука в руке, луны закатились, погашены факелы, и безлюдны каменные амфитеатры.
И лишь один-единственный звук, перед самым рассветом: где-то в дальнем конце пустынной улицы одиноко шагал во тьме ночной сторож, напевая странную, незнакомую песенку…
Летняя ночь
Люди стояли кучками в каменных галереях, растворяясь в тени между голубыми холмами. Звезды и лучезарные марсианские луны струили на них мягкий вечерний свет. Позади мраморного амфитеатра, скрытые мраком и далью, раскинулись городки и виллы, серебром отливали недвижные пруды, от горизонта до горизонта блестели каналы. Летний вечер на Марсе, планете безмятежности и умеренности. По зеленой влаге каналов скользили лодки, изящные, как бронзовые цветки. В нескончаемо длинных рядах жилищ, извивающихся по склонам, подобно оцепеневшим змеям, в прохладных ночных постелях лениво перешептывались возлюбленные. Под факелами на аллеях, держа в руках извергающих тончайшую паутину золотых пауков, еще бегали заигравшиеся дети. Тут и там на столах, булькающих серебристой лавой, готовился поздний ужин. В амфитеатрах сотен городов на ночной стороне Марса смуглые марсиане с глазами цвета червонного золота собирались на досуге вокруг эстрад, откуда покорные музыкантам тихие мелодии, подобно аромату цветов, плыли в притихшем воздухе.
На одной эстраде пела женщина.
По рядам слушателей пробежал шелест.
Пение оборвалось. Певица поднесла руку к горлу.
Потом кивнула музыкантам, они начали сначала.
Музыканты заиграли, она снова запела; на этот раз публика ахнула, подалась вперед, кто-то вскочил на ноги — на амфитеатр словно пахнуло зимней стужей. Потому что песня, которую пела женщина, была странная, страшная, необычная. Она пыталась остановить слова, срывающиеся с ее губ, но они продолжали звучать:
Идет, блистая красотой
Тысячезвездной ясной ночи
В соревнованьи света с тьмой
Изваяны чело и очи.
Руки певицы метнулись ко рту. Она оцепенела, растерянная.
— Что это за слова? — недоумевали музыканты.
— Что за песня?
— Чей язык?
Когда же они опять принялись дуть в свои золотые трубы, снова родилась эта странная музыка и медленно поплыла над публикой, которая теперь громко разговаривала, поднимаясь со своих мест.
— Что с тобой? — спрашивали друг друга музыканты.
— Что за мелодию ты играл?
— А ты сам что играл?
Женщина расплакалась и убежала с эстрады. Публика покинула амфитеатр. Повсюду, во всех смятенных марсианских городах, происходило одно и то же. Холод объял их, точно с неба пал белый снег.
В темных аллеях под факелами дети пели:
…Пришла, а шкаф уже пустой,
Остался песик с носом!
— Дети! — раздавались голоса. — Что это за песенка? Где вы ее выучили?
— Она просто пришла нам в голову, ни с того ни с сего. Какие-то непонятные слова!
Захлопали двери. Улицы опустели. Над голубыми холмами взошла зеленая звезда.
На всей ночной стороне Марса мужчины просыпались от того, что лежавшие рядом возлюбленные напевали во мраке.
— Что это за мелодия?
В тысячах жилищ среди ночи женщины просыпались, обливаясь слезами, и приходилось их утешать:
— Ну, успокойся, успокойся же. Спи. — Ну, что случилось? Дурной сон?
— Завтра произойдет что-то ужасное.
— Ничего не может произойти, у нас все в порядке. Судорожное всхлипывание.
— Я чувствую, это надвигается все ближе, ближе, ближе!..
— С нами ничего не может случиться. Полно! Спи. Спи…
Тихо на предутреннем Марсе, тихо, как в черном студеном колодце, и свет звезд на воде каналов, и в каждой комнате дыхание свернувшихся калачиком детей с зажатыми в кулачках золотыми пауками, и возлюбленные спят рука в руке, луны закатились, погашены факелы, и безлюдны каменные амфитеатры.
И лишь один-единственный звук, перед самым рассветом: где-то в дальнем конце пустынной улицы одиноко шагал во тьме ночной сторож, напевая странную, незнакомую песенку…
И по-прежнему лучами серебрит простор луна…
Когда они вышли из ракеты в ночной мрак, было так холодно, что Спендер сразу принялся собирать марсианский хворост для костра. Насчет того, чтобы отпраздновать прилет на Марс, он и слова не сказал, просто набрал хворосту, подпалил его и стал смотреть, как он горит.
Потом в зареве, окрасившем разреженный воздух над высохшим марсианским морем, оглянулся через плечо на ракету, которая пронесла их всех — капитана Уайлдера, Чероки, Хетэуэя, Сэма Паркхилла, его самого — через немые черные звездные просторы и доставила в безжизненный, грезящий мир.
Джефф Спендер ждал, когда начнется содом. Он глядел на своих товарищей и ждал: сейчас запрыгают, закричат… Вот только пройдет оцепенение от потрясающей мысли, что они «первые» люди на Марсе. Никто об этом вслух не говорил, но в глубине души многие, видимо, надеялись, что их предшественники не долетели и пальма первенства будет принадлежать этой, Четвертой экспедиции. Нет, они никому не желали зла, просто им очень хотелось быть первыми и они мечтали о славе и почете, пока их легкие привыкали к разреженной атмосфере Марса, из-за которой голова становилась словно хмельная, если двигаться слишком быстро.
Гиббс подошел к разгорающемуся костру и спросил:
— Зачем хворост, ведь в ракете есть химическое горючее?
— Неважно, — ответил Спендер, не поднимая головы.
Немыслимо, просто непристойно в первую же ночь на Марсе устраивать шум и гам и тащить из ракеты неуместную здесь штуковину — печку, сверкающую идиотским блеском. Это же будет надругательство какое-то. Еще успеется, еще будет время швырять банки из-под сгущенного молока в гордые марсианские каналы, еще поползут, лениво закувыркаются по седому пустынному дну марсианских морей шуршащие листы «Нью-Йорк таймс», придет время банановой кожуре и замасленной бумаге валяться среди изящно очерченных развалин древних марсианских городов. Все впереди, все будет. Его даже передернуло от этой мысли.
Спендер подкармливал пламя из рук с таким чувством, словно приносил жертву мертвому исполину. Планета, на которую они сели, — гигантская гробница. Здесь погибла целая цивилизация. Элементарная вежливость требует хотя бы в первую ночь вести себя здесь пристойно.
— Нет, так не пойдет! Посадку надо отпраздновать! — Гиббс повернулся к капитану Уайлдеру. — Начальник, а неплохо бы вскрыть несколько банок с джином и мясом и малость кутнуть.
Капитан Уайлдер смотрел на мертвый город, который раскинулся в миле от них.
— Мы все устали, — произнес он рассеянно, точно целиком ушел в созерцание города и забыл про своих людей. — Лучше завтра вечером. Сегодня хватит с нас того, что мы добрались сюда через эту чертову пустоту, и все живы, и в оболочке нет дыры от метеорита.
Космонавты топтались вокруг костра. Их было двадцать, кто положил руку на плечо товарища, кто поправлял пояс. Спендер пристально разглядывал их. Они были недовольны. Они рисковали жизнью ради великого дела. Теперь им хотелось напиться до чертиков, горланить песни, поднять такую пальбу,
— Марсиане, — добавил Хетэуэй.
— А где они теперь?
— Умерли, — сказал Хетэуэй. — Я зашел в один дом, думал, что он, как и другие дома в остальных городах, заброшен много веков назад. Силы небесные, сколько там трупов! Словно груды осенних листьев! Будто сухие стебли и клочки горелой бумаги — все, что от них осталось. Причем умерли совсем недавно, самое большее дней десять назад.
— А в других городах? Хоть что-нибудь живое вы видели?
— Ничего. Я потом еще не один проверил. Из пяти городов четыре заброшены много тысяч лет. Совершенно не представляю себе, куда подевались их обитатели. Зато в каждом пятом городе — одно и то же. Тела. Тысячи тел.
— От чего они умерли? — Спендер подошел ближе.
— Вы не поверите.
— Что их убило?
И по-прежнему лучами серебрит простор луна…
Когда они вышли из ракеты в ночной мрак, было так холодно, что Спендер сразу принялся собирать марсианский хворост для костра. Насчет того, чтобы отпраздновать прилет на Марс, он и слова не сказал, просто набрал хворосту, подпалил его и стал смотреть, как он горит.
Потом в зареве, окрасившем разреженный воздух над высохшим марсианским морем, оглянулся через плечо на ракету, которая пронесла их всех — капитана Уайлдера, Чероки, Хетэуэя, Сэма Паркхилла, его самого — через немые черные звездные просторы и доставила в безжизненный, грезящий мир.
Джефф Спендер ждал, когда начнется содом. Он глядел на своих товарищей и ждал: сейчас запрыгают, закричат… Вот только пройдет оцепенение от потрясающей мысли, что они «первые» люди на Марсе. Никто об этом вслух не говорил, но в глубине души многие, видимо, надеялись, что их предшественники не долетели и пальма первенства будет принадлежать этой, Четвертой экспедиции. Нет, они никому не желали зла, просто им очень хотелось быть первыми и они мечтали о славе и почете, пока их легкие привыкали к разреженной атмосфере Марса, из-за которой голова становилась словно хмельная, если двигаться слишком быстро.
Гиббс подошел к разгорающемуся костру и спросил:
— Зачем хворост, ведь в ракете есть химическое горючее?
— Неважно, — ответил Спендер, не поднимая головы.
Немыслимо, просто непристойно в первую же ночь на Марсе устраивать шум и гам и тащить из ракеты неуместную здесь штуковину — печку, сверкающую идиотским блеском. Это же будет надругательство какое-то. Еще успеется, еще будет время швырять банки из-под сгущенного молока в гордые марсианские каналы, еще поползут, лениво закувыркаются по седому пустынному дну марсианских морей шуршащие листы «Нью-Йорк таймс», придет время банановой кожуре и замасленной бумаге валяться среди изящно очерченных развалин древних марсианских городов. Все впереди, все будет. Его даже передернуло от этой мысли.
Спендер подкармливал пламя из рук с таким чувством, словно приносил жертву мертвому исполину. Планета, на которую они сели, — гигантская гробница. Здесь погибла целая цивилизация. Элементарная вежливость требует хотя бы в первую ночь вести себя здесь пристойно.
— Нет, так не пойдет! Посадку надо отпраздновать! — Гиббс повернулся к капитану Уайлдеру. — Начальник, а неплохо бы вскрыть несколько банок с джином и мясом и малость кутнуть.
Капитан Уайлдер смотрел на мертвый город, который раскинулся в миле от них.
— Мы все устали, — произнес он рассеянно, точно целиком ушел в созерцание города и забыл про своих людей. — Лучше завтра вечером. Сегодня хватит с нас того, что мы добрались сюда через эту чертову пустоту, и все живы, и в оболочке нет дыры от метеорита.
Космонавты топтались вокруг костра. Их было двадцать, кто положил руку на плечо товарища, кто поправлял пояс. Спендер пристально разглядывал их. Они были недовольны. Они рисковали жизнью ради великого дела. Теперь им хотелось напиться до чертиков, горланить песни, поднять такую пальбу,
— Марсиане, — добавил Хетэуэй.
— А где они теперь?
— Умерли, — сказал Хетэуэй. — Я зашел в один дом, думал, что он, как и другие дома в остальных городах, заброшен много веков назад. Силы небесные, сколько там трупов! Словно груды осенних листьев! Будто сухие стебли и клочки горелой бумаги — все, что от них осталось. Причем умерли совсем недавно, самое большее дней десять назад.
— А в других городах? Хоть что-нибудь живое вы видели?
— Ничего. Я потом еще не один проверил. Из пяти городов четыре заброшены много тысяч лет. Совершенно не представляю себе, куда подевались их обитатели. Зато в каждом пятом городе — одно и то же. Тела. Тысячи тел.
— От чего они умерли? — Спендер подошел ближе.
— Вы не поверите.
— Что их убило?
Поселенцы
Земляне прилетали на Марс.
Прилетали, потому что чего-то боялись и ничего не боялись, потому что были счастливы и несчастливы, чувствовали себя паломниками и не чувствовали себя паломниками. У каждого была своя причина. Оставляли опостылевших жен, или опостылевшую работу, или опостылевшие города; прилетали, чтобы найти что-то, или избавиться от чего-то, или добыть что-то, откопать что-то или зарыть что-то, или предать что-то забвению. Прилетали с большими ожиданиями, с маленькими ожиданиями, совсем без ожиданий. Но во множестве городов на четырехцветных плакатах повелительно указывал начальственный палец: ДЛЯ ТЕБЯ ЕСТЬ РАБОТА НА НЕБЕ — ПОБЫВАЙ НА МАРСЕ! И люди собирались в путь; правда, сперва их было немного, какие-нибудь десятки — большинству еще до того, как ракета выстреливала в космос, становилось худо. Болезнь называлась Одиночество. Потому что стоило только представить себе, как твой родной город уменьшается там, внизу — сначала он с кулак размером, затем — с лимон, с булавочную головку, наконец, вовсе пропал в пламенной реактивной струе — и у тебя такое чувство, словно ты никогда не рождался на свет, и города никакого нет, и ты нигде, лишь космос кругом, ничего знакомого, только чужие люди. А когда твой штат — Иллинойс или Айова, Миссури или Монтана — тонул в пелене облаков, да что там, все Соединенные Штаты сжимались в мглистый островок, вся планета Земля превращалась в грязновато-серый мячик, летящий куда-то прочь, — тогда уж ты оказывался совсем один, одинокий скиталец в просторах космоса, и невозможно представить себе, что тебя ждет.
Ничего удивительного, что первых было совсем немного. Число переселенцев росло пропорционально количеству землян, которые уже перебрались на Марс: одному страшно, а на людях — не так. Но первым, Одиноким, приходилось полагаться только на себя…
Саранча
Ракеты жгли сухие луга, обращали камень в лаву, дерево — в уголь, воду — в пар, сплавляли песок и кварц в зеленое стекло; оно лежало везде, словно разбитые зеркала, отражающие в себе ракетное нашествие. Ракеты, ракеты, ракеты, как барабанная дробь в ночи. Ракеты роями саранчи садились в клубах розового дыма. Из ракет высыпали люди с молотками: перековать на привычный лад чужой мир, стесать все необычное, рот ощетинен гвоздями, словно стальнозубая пасть хищника, сплевывает гвозди в мелькающие руки, и те сколачивают каркасные дома, кроют крыши дранкой — чтобы спрятаться от чужих, пугающих звезд, вешают зеленые шторы — чтобы укрыться от ночи. Затем плотники спешили дальше, и являлись женщины с цветочными горшками, пестрыми ситцами, кастрюлями и поднимали кухонный шум, чтобы заглушить тишину Марса, притаившуюся у дверей, у занавешенных окон.
За шесть месяцев на голой планете был заложен десяток городков с великим числом трескучих неоновых трубок и желтых электрических лампочек. Девяносто с лишним тысяч человек прибыло на Марс, а на Земле уже укладывали чемоданы другие…
Ночная встреча
Прежде чем ехать дальше в голубые горы, Томас Гомес остановился возле уединенной бензоколонки.
— Не одиноко тебе здесь, папаша? — спросил Томас.
Старик протер тряпкой ветровое стекло небольшого грузовика.
— Ничего.
— А как тебе Марс нравится, старина?
— Здорово. Всегда что-нибудь новое. Когда я в прошлом году попал сюда, то первым делом сказал себе: вперед не заглядывай, ничего не требуй, ничему не удивляйся. Землю нам надо забыть, все, что было, забыть. Теперь следует приглядеться, освоиться и понять, что здесь все не так, все по-другому. Да тут одна только погода — это же настоящий цирк. Это марсианская погода. Днем жарища адская, ночью адский холод. А необычные цветы, необычный дождь — неожиданности на каждом шагу! Я сюда приехал на покой, задумал дожить жизнь в таком месте, где все иначе. Это очень важно старому человеку — переменить обстановку. Молодежи с ним говорить недосуг, другие старики ему осточертели. Вот я и смекнул, что самое подходящее для меня — найти такое необычное местечко, что только не ленись смотреть, кругом развлечения. Вот, подрядился на эту бензоколонку. Станет чересчур хлопотно, снимусь отсюда и переберусь на какое-нибудь старое шоссе, не такое оживленное; мне бы только заработать на пропитание, да чтобы еще оставалось время примечать, до чего же здесь все не так.
— Неплохо ты сообразил, папаша, — сказал Томас; его смуглые руки лежали, отдыхая, на баранке. У него было отличное настроение. Десять дней кряду он работал в одном из новых поселений, теперь получил два выходных и ехал на праздник.
— Уж я больше ничему не удивляюсь, — продолжал старик. — Гляжу, и только. Можно сказать, набираюсь впечатлений. Если тебе Марс, каков он есть, не по вкусу, отправляйся лучше обратно на Землю. Здесь все шиворот-навыворот: почва, воздух, каналы, туземцы (правда, я еще ни одного не видел, но, говорят, они тут где-то бродят), часы. Мои часы — и те чудят. Здесь даже время шиворот-навыворот. Иной раз мне сдается, что я один-одинешенек, на всей этой проклятой планете больше ни души. Пусто. А иногда покажется, что я — восьмилетний мальчишка, сам махонький, а все кругом здоровенное! Видит бог, тут самое подходящее место для старого человека. Тут не задремлешь, я просто счастливый стал. Знаешь, что такое Марс? Он смахивает на вещицу, которую мне подарили на рождество семьдесят лет назад — не знаю, держал ли ты в руках такую штуку: их калейдоскопами называют, внутри осколки хрусталя, лоскутки, бусинки, всякая мишура… А поглядишь сквозь нее на солнце — дух захватывает! Сколько узоров! Так вот, это и есть Марс. Наслаждайся им и не требуй от него, чтобы он был другим. Господи, да знаешь ли ты, что вот это самое шоссе проложено марсианами шестнадцать веков назад, а в полном порядке! Гони доллар и пятьдесят центов, спасибо и спокойной ночи.
Томас покатил по древнему шоссе, тихонько посмеиваясь.
Это был долгий путь через горы, сквозь тьму, и он держал руль, иногда опуская руку в корзинку с едой и доставая оттуда леденец. Прошло уже больше часа непрерывной езды, и ни одной встречной машины, ни одного огонька, только лента дороги, гул и рокот мотора, и Марс кругом, тихий, безмолвный. Марс — всегда тихий, в эту ночь был тише, чем когда-либо. Мимо Томаса скользили пустыни, и высохшие моря, и вершины среди звезд.
Нынче ночью в воздухе пахло Временем. Он улыбнулся, мысленно оценивая свою выдумку. Неплохая мысль. А в самом деле: чем пахнет Время? Пылью, часами, человеком. А если задуматься, какое оно — Время то есть — на слух? Оно вроде воды, струящейся в темной пещере, вроде зовущих голосов, вроде шороха земли, что сыплется на крышку пустого ящика, вроде дождя. Пойдем еще дальше, спросим, как выглядит Время? Оно точно снег, бесшумно летящий в черный колодец, или старинный немой фильм, в котором сто миллиардов лиц, как новогодние шары, падают вниз, падают в ничто. Вот чем пахнет Время и вот какое оно на вид и на слух. А нынче ночью — Томас высунул руку в боковое окошко, — нынче так и кажется, что его можно даже пощупать.
Он вел грузовик в горах Времени. Что-то кольнуло шею, и Томас выпрямился, внимательно глядя вперед.
Он въехал в маленький мертвый марсианский городок, выключил мотор и окунулся в окружающее его безмолвие. Затаив дыхание, он смотрел из кабины на залитые луной белые здания, в которых уже много веков никто не жил. Великолепные, безупречные здания, пусть разрушенные, но все равно великолепные.
Включив мотор, Томас проехал еще милю-другую, потом снова остановился, вылез, захватив свою корзинку, и прошел на бугор, откуда можно было
Ночная встреча
Прежде чем ехать дальше в голубые горы, Томас Гомес остановился возле уединенной бензоколонки.
— Не одиноко тебе здесь, папаша? — спросил Томас.
Старик протер тряпкой ветровое стекло небольшого грузовика.
— Ничего.
— А как тебе Марс нравится, старина?
— Здорово. Всегда что-нибудь новое. Когда я в прошлом году попал сюда, то первым делом сказал себе: вперед не заглядывай, ничего не требуй, ничему не удивляйся. Землю нам надо забыть, все, что было, забыть. Теперь следует приглядеться, освоиться и понять, что здесь все не так, все по-другому. Да тут одна только погода — это же настоящий цирк. Это марсианская погода. Днем жарища адская, ночью адский холод. А необычные цветы, необычный дождь — неожиданности на каждом шагу! Я сюда приехал на покой, задумал дожить жизнь в таком месте, где все иначе. Это очень важно старому человеку — переменить обстановку. Молодежи с ним говорить недосуг, другие старики ему осточертели. Вот я и смекнул, что самое подходящее для меня — найти такое необычное местечко, что только не ленись смотреть, кругом развлечения. Вот, подрядился на эту бензоколонку. Станет чересчур хлопотно, снимусь отсюда и переберусь на какое-нибудь старое шоссе, не такое оживленное; мне бы только заработать на пропитание, да чтобы еще оставалось время примечать, до чего же здесь все не так.
— Неплохо ты сообразил, папаша, — сказал Томас; его смуглые руки лежали, отдыхая, на баранке. У него было отличное настроение. Десять дней кряду он работал в одном из новых поселений, теперь получил два выходных и ехал на праздник.
— Уж я больше ничему не удивляюсь, — продолжал старик. — Гляжу, и только. Можно сказать, набираюсь впечатлений. Если тебе Марс, каков он есть, не по вкусу, отправляйся лучше обратно на Землю. Здесь все шиворот-навыворот: почва, воздух, каналы, туземцы (правда, я еще ни одного не видел, но, говорят, они тут где-то бродят), часы. Мои часы — и те чудят. Здесь даже время шиворот-навыворот. Иной раз мне сдается, что я один-одинешенек, на всей этой проклятой планете больше ни души. Пусто. А иногда покажется, что я — восьмилетний мальчишка, сам махонький, а все кругом здоровенное! Видит бог, тут самое подходящее место для старого человека. Тут не задремлешь, я просто счастливый стал. Знаешь, что такое Марс? Он смахивает на вещицу, которую мне подарили на рождество семьдесят лет назад — не знаю, держал ли ты в руках такую штуку: их калейдоскопами называют, внутри осколки хрусталя, лоскутки, бусинки, всякая мишура… А поглядишь сквозь нее на солнце — дух захватывает! Сколько узоров! Так вот, это и есть Марс. Наслаждайся им и не требуй от него, чтобы он был другим. Господи, да знаешь ли ты, что вот это самое шоссе проложено марсианами шестнадцать веков назад, а в полном порядке! Гони доллар и пятьдесят центов, спасибо и спокойной ночи.
Томас покатил по древнему шоссе, тихонько посмеиваясь.
Это был долгий путь через горы, сквозь тьму, и он держал руль, иногда опуская руку в корзинку с едой и доставая оттуда леденец. Прошло уже больше часа непрерывной езды, и ни одной встречной машины, ни одного огонька, только лента дороги, гул и рокот мотора, и Марс кругом, тихий, безмолвный. Марс — всегда тихий, в эту ночь был тише, чем когда-либо. Мимо Томаса скользили пустыни, и высохшие моря, и вершины среди звезд.
Нынче ночью в воздухе пахло Временем. Он улыбнулся, мысленно оценивая свою выдумку. Неплохая мысль. А в самом деле: чем пахнет Время? Пылью, часами, человеком. А если задуматься, какое оно — Время то есть — на слух? Оно вроде воды, струящейся в темной пещере, вроде зовущих голосов, вроде шороха земли, что сыплется на крышку пустого ящика, вроде дождя. Пойдем еще дальше, спросим, как выглядит Время? Оно точно снег, бесшумно летящий в черный колодец, или старинный немой фильм, в котором сто миллиардов лиц, как новогодние шары, падают вниз, падают в ничто. Вот чем пахнет Время и вот какое оно на вид и на слух. А нынче ночью — Томас высунул руку в боковое окошко, — нынче так и кажется, что его можно даже пощупать.
Он вел грузовик в горах Времени. Что-то кольнуло шею, и Томас выпрямился, внимательно глядя вперед.
Он въехал в маленький мертвый марсианский городок, выключил мотор и окунулся в окружающее его безмолвие. Затаив дыхание, он смотрел из кабины на залитые луной белые здания, в которых уже много веков никто не жил. Великолепные, безупречные здания, пусть разрушенные, но все равно великолепные.
Включив мотор, Томас проехал еще милю-другую, потом снова остановился, вылез, захватив свою корзинку, и прошел на бугор, откуда можно было
— Мистер, всех ваших скосила эпидемия. Странно, что вам это неизвестно. Вы каким-то образом спаслись.
— Я не спасся, не от чего мне было спасаться. О чем это вы говорите? Я еду на праздник у канала возле Эниальских Гор. И прошлую ночь был там. Вы разве не видите город? — Марсианин вытянул руку, показывая.
Томас посмотрел и увидел развалины.
— Но ведь этот город мертв уже много тысяч лет!
Марсианин рассмеялся.
— Мертв? Я ночевал там вчера!
— А я его проезжал на той неделе, и на позапрошлой неделе, и вот только что, там одни развалины! Видите разбитые колонны?
— Разбитые? Я их отлично вижу в свете луны. Прямые, стройные колонны.
— На улицах ничего, кроме пыли, — сказал Томас.
— Улицы чистые!
— Каналы давно высохли, они пусты.
— Каналы полны лавандового вина!
— Город мертв.
— Город жив! — возразил марсианин, смеясь еще громче. — Вы решительно ошибаетесь. Видите, сколько там карнавальных огней? Там прекрасные челны, изящные, как женщины, там прекрасные женщины, изящные, как челны, женщины с кожей песочного цвета, женщины с огненными цветками в руках. Я их вижу, вижу, как они бегают вон там, по улицам, такие маленькие отсюда. И я туда еду, на праздник, мы будем всю ночь кататься по каналу, будем петь, пить, любить. Неужели вы не видите?
— Мистер, этот город мертв, как сушеная ящерица. Спросите любого из наших. Что до меня, то я еду в Грин-Сити — новое поселение на Иллинойском шоссе, мы его совсем недавно заложили. А вы что-то напутали. Мы доставили сюда миллион квадратных футов досок лучшего орегонского леса, несколько десятков тонн добрых стальных гвоздей и отгрохали два поселка — глаз не оторвешь. Как раз сегодня спрыскиваем один из них. С Земли прилетают две ракеты с нашими женами и невестами. Будут народные танцы, виски…
Марсианин встрепенулся.
— Вы говорите — в той стороне?
— Да, там, где ракеты. — Томас подвел его к краю бугра и показал вниз. — Видите?
— Нет.
— Да вон же, вон, черт возьми! Такие длинные, серебристые штуки.
Будет ласковый дождь
В гостиной говорящие часы настойчиво пели: тик-так, семь часов, семь утра, вставать пора! — словно боясь, что их никто не послушает. Объятый утренней тишиной дом был пуст. Часы продолжали тикать и твердили, твердили свое в пустоту: девять минут восьмого, к завтраку все готово, девять минут восьмого!
На кухне печь сипло вздохнула и исторгла из своего жаркого чрева восемь безупречно поджаренных тостов, четыре глазуньи, шестнадцать ломтиков бекона, две чашки кофе и два стакана холодного молока.
— Сегодня в городе Эллендейле, штат Калифорния, четвертое августа две тысячи двадцать шестого года, — произнес другой голос, с потолка кухни. Он повторил число трижды, чтобы получше запомнили. — Сегодня день рождения мистера Фезерстоуна. Годовщина свадьбы Тилиты. Подошел срок страхового взноса, пора платить за воду, газ, свет.
Где то в стенах щелкали реле, перед электрическими глазами скользили ленты памятки.
Восемь одна, тик-так, восемь одна, в школу пора, на работу пора, живо, живо, восемь одна! Но не хлопали двери, и не слышалось мягкой поступи резиновых каблуков по коврам.
На улице шел дождь. Метеокоробка на наружной двери тихо пела: «Дождик, дождик целый день, плащ, галоши ты надень…» Дождь гулко барабанил по крыше пустого дома.
Во дворе зазвонил гараж, поднимая дверь, за которой стояла готовая к выезду автомашина… Минута, другая — дверь опустилась на место.
В восемь тридцать яичница сморщилась, а тосты стали каменными. Алюминиевая лопаточка сбросила их в раковину, оттуда струя горячей воды увлекла их в металлическую горловину, которая все растворяла и отправляла через канализацию в далекое море. Грязные тарелки нырнули в горячую мойку и вынырнули из нее, сверкая сухим блеском.
Девять пятнадцать, — пропели часы, — пора уборкой заняться.
Из нор в стене высыпали крохотные роботы-мыши. Во всех помещениях кишели маленькие суетливые уборщики из металла и резины Они стукались о кресла, вертели своими щетинистыми роликами, ерошили ковровый ворс, тихо высасывая скрытые пылинки. Затем исчезли, словно неведомые пришельцы, юркнули в свои убежища Их розовые электрические глазки потухли. Дом был чист.
Десять часов. Выглянуло солнце, тесня завесу дождя. Дом стоял одиноко среди развалин и пепла. Во всем городе он один уцелел. Ночами разрушенный город излучал радиоактивное сияние, видное на много миль вокруг.
Десять пятнадцать. Распылители в саду извергли золотистые фонтаны, наполнив ласковый утренний воздух волнами сверкающих водяных бусинок. Вода струилась по оконным стеклам, стекала по обугленной западной стене, на которой белая краска начисто выгорела. Вся западная стена была черной, кроме пяти небольших клочков. Вот краска обозначила фигуру мужчины, катящего травяную косилку. А вот, точно на фотографии, женщина нагнулась за цветком. Дальше — еще силуэты, выжженные на дереве в одно титаническое мгновение… Мальчишка вскинул вверх руки, над ним застыл контур подброшенного мяча, напротив мальчишки — девочка, ее руки подняты, ловят мяч, который так и не опустился.
Только пять пятен краски — мужчина, женщина, дети, мяч. Все остальное — тонкий слой древесного угля.
Тихий дождь из распылителя наполнил сад падающими искрами света…
Будет ласковый дождь
В гостиной говорящие часы настойчиво пели: тик-так, семь часов, семь утра, вставать пора! — словно боясь, что их никто не послушает. Объятый утренней тишиной дом был пуст. Часы продолжали тикать и твердили, твердили свое в пустоту: девять минут восьмого, к завтраку все готово, девять минут восьмого!
На кухне печь сипло вздохнула и исторгла из своего жаркого чрева восемь безупречно поджаренных тостов, четыре глазуньи, шестнадцать ломтиков бекона, две чашки кофе и два стакана холодного молока.
— Сегодня в городе Эллендейле, штат Калифорния, четвертое августа две тысячи двадцать шестого года, — произнес другой голос, с потолка кухни. Он повторил число трижды, чтобы получше запомнили. — Сегодня день рождения мистера Фезерстоуна. Годовщина свадьбы Тилиты. Подошел срок страхового взноса, пора платить за воду, газ, свет.
Где то в стенах щелкали реле, перед электрическими глазами скользили ленты памятки.
Восемь одна, тик-так, восемь одна, в школу пора, на работу пора, живо, живо, восемь одна! Но не хлопали двери, и не слышалось мягкой поступи резиновых каблуков по коврам.
На улице шел дождь. Метеокоробка на наружной двери тихо пела: «Дождик, дождик целый день, плащ, галоши ты надень…» Дождь гулко барабанил по крыше пустого дома.
Во дворе зазвонил гараж, поднимая дверь, за которой стояла готовая к выезду автомашина… Минута, другая — дверь опустилась на место.
В восемь тридцать яичница сморщилась, а тосты стали каменными. Алюминиевая лопаточка сбросила их в раковину, оттуда струя горячей воды увлекла их в металлическую горловину, которая все растворяла и отправляла через канализацию в далекое море. Грязные тарелки нырнули в горячую мойку и вынырнули из нее, сверкая сухим блеском.
Девять пятнадцать, — пропели часы, — пора уборкой заняться.
Из нор в стене высыпали крохотные роботы-мыши. Во всех помещениях кишели маленькие суетливые уборщики из металла и резины Они стукались о кресла, вертели своими щетинистыми роликами, ерошили ковровый ворс, тихо высасывая скрытые пылинки. Затем исчезли, словно неведомые пришельцы, юркнули в свои убежища Их розовые электрические глазки потухли. Дом был чист.
Десять часов. Выглянуло солнце, тесня завесу дождя. Дом стоял одиноко среди развалин и пепла. Во всем городе он один уцелел. Ночами разрушенный город излучал радиоактивное сияние, видное на много миль вокруг.
Десять пятнадцать. Распылители в саду извергли золотистые фонтаны, наполнив ласковый утренний воздух волнами сверкающих водяных бусинок. Вода струилась по оконным стеклам, стекала по обугленной западной стене, на которой белая краска начисто выгорела. Вся западная стена была черной, кроме пяти небольших клочков. Вот краска обозначила фигуру мужчины, катящего травяную косилку. А вот, точно на фотографии, женщина нагнулась за цветком. Дальше — еще силуэты, выжженные на дереве в одно титаническое мгновение… Мальчишка вскинул вверх руки, над ним застыл контур подброшенного мяча, напротив мальчишки — девочка, ее руки подняты, ловят мяч, который так и не опустился.
Только пять пятен краски — мужчина, женщина, дети, мяч. Все остальное — тонкий слой древесного угля.
Тихий дождь из распылителя наполнил сад падающими искрами света…
Этот дом вздрагивал от каждого звука. Стоило воробью задеть окно крылом, как тотчас громко щелкала штора и перепуганная птица летела прочь. Никто — даже воробей — не смел прикасаться к дому!
Дом был алтарем с десятью тысячами священнослужителей и прислужников, больших и маленьких, они служили и прислуживали, и хором пели славу. Но боги исчезли, и ритуал продолжался без смысла и без толку.
Двенадцать.
У парадного крыльца заскулил продрогнувший пес.
Дверь сразу узнала собачий голос и отворилась. Пес, некогда здоровенный, сытый, а теперь кожа да кости, весь в парше, вбежал в дом, печатая грязные следы. За ним суетились сердитые мыши — сердитые, что их потревожили, что надо снова убирать!
Ведь стоило малейшей пылинке проникнуть внутрь сквозь щель под дверью, как стенные панели мигом приподнимались, и оттуда выскакивали металлические уборщики. Дерзновенный клочок бумаги, пылинка или волосок исчезали в стенах, пойманные крохотными стальными челюстями. Оттуда по трубам мусор спускался в подвал, в гудящее чрево мусоросжигателя, который злобным Ваалом притаился в темном углу.
Пес побежал наверх, истерически лая перед каждой дверью, пока не понял — как это уже давно понял дом, — что никого нет, есть только мертвая тишина.
Он принюхался и поскреб кухонную дверь, потом лег возле нее, продолжая нюхать. Там, за дверью, плита пекла блины, от которых по всему дому шел сытный дух и заманчивый запах кленовой патоки.
Собачья пасть наполнилась пеной, в глазах вспыхнуло пламя. Пес вскочил, заметался, кусая себя за хвост, бешено завертелся и сдох. Почти час пролежал он в гостиной.
Два часа, — пропел голос.
Учуяв наконец едва приметный запах разложения, из нор с жужжанием выпорхнули полчища мышей, легко и стремительно, словно сухие листья, гонимые электрическим веером.
Этот дом вздрагивал от каждого звука. Стоило воробью задеть окно крылом, как тотчас громко щелкала штора и перепуганная птица летела прочь. Никто — даже воробей — не смел прикасаться к дому!
Дом был алтарем с десятью тысячами священнослужителей и прислужников, больших и маленьких, они служили и прислуживали, и хором пели славу. Но боги исчезли, и ритуал продолжался без смысла и без толку.
Двенадцать.
У парадного крыльца заскулил продрогнувший пес.
Дверь сразу узнала собачий голос и отворилась. Пес, некогда здоровенный, сытый, а теперь кожа да кости, весь в парше, вбежал в дом, печатая грязные следы. За ним суетились сердитые мыши — сердитые, что их потревожили, что надо снова убирать!
Ведь стоило малейшей пылинке проникнуть внутрь сквозь щель под дверью, как стенные панели мигом приподнимались, и оттуда выскакивали металлические уборщики. Дерзновенный клочок бумаги, пылинка или волосок исчезали в стенах, пойманные крохотными стальными челюстями. Оттуда по трубам мусор спускался в подвал, в гудящее чрево мусоросжигателя, который злобным Ваалом притаился в темном углу.
Пес побежал наверх, истерически лая перед каждой дверью, пока не понял — как это уже давно понял дом, — что никого нет, есть только мертвая тишина.
Он принюхался и поскреб кухонную дверь, потом лег возле нее, продолжая нюхать. Там, за дверью, плита пекла блины, от которых по всему дому шел сытный дух и заманчивый запах кленовой патоки.
Собачья пасть наполнилась пеной, в глазах вспыхнуло пламя. Пес вскочил, заметался, кусая себя за хвост, бешено завертелся и сдох. Почти час пролежал он в гостиной.
Два часа, — пропел голос.
Учуяв наконец едва приметный запах разложения, из нор с жужжанием выпорхнули полчища мышей, легко и стремительно, словно сухие листья, гонимые электрическим веером.
Пес исчез.
Мусорная печь в подвале внезапно засветилась пламенем, и через дымоход вихрем промчался сноп искр.
Два тридцать пять.
Из стен внутреннего дворика выскочили карточные столы. Игральные карты, мелькая очками, разлетелись по местам. На дубовом прилавке появились коктейли и сэндвичи с яйцом. Заиграла музыка.
Но столы хранили молчание, и никто не брал карт.
В четыре часа столы сложились, словно огромные бабочки, и вновь ушли в стены.
Половина пятого.
Стены детской комнаты засветились.
На них возникли животные: желтые жирафы, голубые львы, розовые антилопы, лиловые пантеры прыгали в хрустальной толще. Стены были стеклянные, восприимчивые к краскам и игре воображения. Скрытые киноленты заскользили по зубцам с бобины на бобину, и стены ожили. Пол детской колыхался, напоминая волнуемое ветром поле, и по нему бегали алюминиевые тараканы и железные сверчки, а в жарком неподвижном воздухе, в остром запахе звериных следов, порхали бабочки из тончайшей розовой ткани! Слышался звук, как от огромного, копошащегося в черной пустоте кузнечных мехов роя пчел: ленивое урчание сытого льва. Слышался цокот копыт окапи и шум освежающего лесного дождя, шуршащего по хрупким стеблям жухлой травы. Вот стены растаяли, растворились в необозримых просторах опаленных солнцем лугов и бездонного жаркого неба. Животные рассеялись по колючим зарослям и водоемам.
Время детской передачи.
Пять часов. Ванна наполнилась прозрачной горячей водой.
Шесть, семь, восемь часов. Блюда с обедом проделали удивительные фокусы, потом что-то щелкнуло в кабинете, и на металлическом штативе возле камина, в котором разгорелось уютное пламя, вдруг возникла курящаяся сигара с шапочкой мягкого серого пепла.
Девять часов. Невидимые провода согрели простыни — здесь было холодно по ночам.
Девять ноль пять. В кабинете с потолка донесся голос:
— Миссис Маклеллан, какое стихотворение хотели бы вы услышать сегодня?
Дом молчал.
Наконец голос сказал:
— Поскольку вы не выразили никакого желания, я выберу что-нибудь наудачу.
Зазвучал тихий музыкальный аккомпанемент.
— Сара Тисдейл. Ваше любимое, если не ошибаюсь…
Будет ласковый дождь, будет запах земли.
Щебет юрких стрижей от зари до зари,
И ночные рулады лягушек в прудах.
И цветение слив в белопенных садах;
Огнегрудый комочек слетит на забор,
И малиновки трель выткет звонкий узор.
И никто, и никто не вспомянет войну.
Пережито-забыто, ворошить ни к чему.
И ни птица, ни ива слезы не прольет,
Если сгинет с Земли человеческий род.
И весна… и Весна встретит новый рассвет,
Не заметив, что нас уже нет.
В камине трепетало, угасая, пламя, сигара осыпалась кучкой немого пепла. Между безмолвных стен стояли одно против другого пустые кресла, играла музыка.
Пес исчез.
Мусорная печь в подвале внезапно засветилась пламенем, и через дымоход вихрем промчался сноп искр.
Два тридцать пять.
Из стен внутреннего дворика выскочили карточные столы. Игральные карты, мелькая очками, разлетелись по местам. На дубовом прилавке появились коктейли и сэндвичи с яйцом. Заиграла музыка.
Но столы хранили молчание, и никто не брал карт.
В четыре часа столы сложились, словно огромные бабочки, и вновь ушли в стены.
Половина пятого.
Стены детской комнаты засветились.
На них возникли животные: желтые жирафы, голубые львы, розовые антилопы, лиловые пантеры прыгали в хрустальной толще. Стены были стеклянные, восприимчивые к краскам и игре воображения. Скрытые киноленты заскользили по зубцам с бобины на бобину, и стены ожили. Пол детской колыхался, напоминая волнуемое ветром поле, и по нему бегали алюминиевые тараканы и железные сверчки, а в жарком неподвижном воздухе, в остром запахе звериных следов, порхали бабочки из тончайшей розовой ткани! Слышался звук, как от огромного, копошащегося в черной пустоте кузнечных мехов роя пчел: ленивое урчание сытого льва. Слышался цокот копыт окапи и шум освежающего лесного дождя, шуршащего по хрупким стеблям жухлой травы. Вот стены растаяли, растворились в необозримых просторах опаленных солнцем лугов и бездонного жаркого неба. Животные рассеялись по колючим зарослям и водоемам.
Время детской передачи.
Пять часов. Ванна наполнилась прозрачной горячей водой.
Шесть, семь, восемь часов. Блюда с обедом проделали удивительные фокусы, потом что-то щелкнуло в кабинете, и на металлическом штативе возле камина, в котором разгорелось уютное пламя, вдруг возникла курящаяся сигара с шапочкой мягкого серого пепла.
Девять часов. Невидимые провода согрели простыни — здесь было холодно по ночам.
Девять ноль пять. В кабинете с потолка донесся голос:
— Миссис Маклеллан, какое стихотворение хотели бы вы услышать сегодня?
Дом молчал.
Наконец голос сказал:
— Поскольку вы не выразили никакого желания, я выберу что-нибудь наудачу.
Зазвучал тихий музыкальный аккомпанемент.
— Сара Тисдейл. Ваше любимое, если не ошибаюсь…
Будет ласковый дождь, будет запах земли.
Щебет юрких стрижей от зари до зари,
И ночные рулады лягушек в прудах.
И цветение слив в белопенных садах;
Огнегрудый комочек слетит на забор,
И малиновки трель выткет звонкий узор.
И никто, и никто не вспомянет войну.
Пережито-забыто, ворошить ни к чему.
И ни птица, ни ива слезы не прольет,
Если сгинет с Земли человеческий род.
И весна… и Весна встретит новый рассвет,
Не заметив, что нас уже нет.
В камине трепетало, угасая, пламя, сигара осыпалась кучкой немого пепла. Между безмолвных стен стояли одно против другого пустые кресла, играла музыка.
В десять часов наступила агония.
Подул ветер. Сломанный сук, падая с дерева, высадил кухонное окно. Бутылка пятновыводителя разбилась вдребезги о плиту. Миг — и вся кухня охвачена огнем!
— Пожар! — послышался крик. Лампы замигали, с потолков, нагнетаемые насосами, хлынули струи воды. Но горючая жидкость растекалась по линолеуму, она просочилась, нырнула под дверь и уже целый хор подхватил:
— Пожар! Пожар! Пожар!
Дом старался выстоять. Двери плотно затворились, но оконные стекла полопались от жара, и ветер раздувал огонь.
Под натиском огня, десятков миллиардов сердитых искр, которые с яростной бесцеремонностью летели из комнаты в комнату и неслись вверх по лестнице, дом начал отступать.
Еще из стен, семеня, выбегали суетливые водяные крысы, выпаливали струи воды и возвращались за новым запасом. И стенные распылители извергали каскады механического дождя. Поздно. Где-то с тяжелым вздохом, передернув плечами, замер насос. Прекратился дождь-огнеборец. Иссякла вода в запасном баке, который много— много дней питал ванны и посудомойки.
Огонь потрескивал, пожирая ступеньку за ступенькой. В верхних комнатах он, словно гурман, смаковал картины Пикассо и Матисса, слизывая маслянистую корочку и бережно скручивая холсты черной стружкой.
Он добрался до кроватей, вот уже скачет по подоконникам, перекрашивает портьеры!
Но тут появилось подкрепление.
Из чердачных люков вниз уставились незрячие лица роботов, изрыгая ртами— форсунками зеленые химикалии.
Огонь попятился: даже слон пятится при виде мертвой змеи. А тут по полу хлестало двадцать змей, умерщвляя огонь холодным чистым ядом зеленой пены.
Но огонь был хитер, он послал языки пламени по наружной стене вверх, на чердак, где стояли насосы. Взрыв! Электронный мозг, управлявший насосами, бронзовой шрапнелью вонзился в балки.
Потом огонь метнулся назад и обошел все чуланы, щупая висящую там одежду.
В десять часов наступила агония.
Подул ветер. Сломанный сук, падая с дерева, высадил кухонное окно. Бутылка пятновыводителя разбилась вдребезги о плиту. Миг — и вся кухня охвачена огнем!
— Пожар! — послышался крик. Лампы замигали, с потолков, нагнетаемые насосами, хлынули струи воды. Но горючая жидкость растекалась по линолеуму, она просочилась, нырнула под дверь и уже целый хор подхватил:
— Пожар! Пожар! Пожар!
Дом старался выстоять. Двери плотно затворились, но оконные стекла полопались от жара, и ветер раздувал огонь.
Под натиском огня, десятков миллиардов сердитых искр, которые с яростной бесцеремонностью летели из комнаты в комнату и неслись вверх по лестнице, дом начал отступать.
Еще из стен, семеня, выбегали суетливые водяные крысы, выпаливали струи воды и возвращались за новым запасом. И стенные распылители извергали каскады механического дождя. Поздно. Где-то с тяжелым вздохом, передернув плечами, замер насос. Прекратился дождь-огнеборец. Иссякла вода в запасном баке, который много— много дней питал ванны и посудомойки.
Огонь потрескивал, пожирая ступеньку за ступенькой. В верхних комнатах он, словно гурман, смаковал картины Пикассо и Матисса, слизывая маслянистую корочку и бережно скручивая холсты черной стружкой.
Он добрался до кроватей, вот уже скачет по подоконникам, перекрашивает портьеры!
Но тут появилось подкрепление.
Из чердачных люков вниз уставились незрячие лица роботов, изрыгая ртами— форсунками зеленые химикалии.
Огонь попятился: даже слон пятится при виде мертвой змеи. А тут по полу хлестало двадцать змей, умерщвляя огонь холодным чистым ядом зеленой пены.
Но огонь был хитер, он послал языки пламени по наружной стене вверх, на чердак, где стояли насосы. Взрыв! Электронный мозг, управлявший насосами, бронзовой шрапнелью вонзился в балки.
Потом огонь метнулся назад и обошел все чуланы, щупая висящую там одежду.
Но огонь был хитер, он послал языки пламени по наружной стене вверх, на чердак, где стояли насосы. Взрыв! Электронный мозг, управлявший насосами, бронзовой шрапнелью вонзился в балки.
Потом огонь метнулся назад и обошел все чуланы, щупая висящую там одежду.
Дом содрогнулся, стуча дубовыми костями, его оголенный скелет корчился от жара, сеть проводов — его нервы — обнажилась, словно некий хирург содрал с него кожу, чтобы красные вены и капилляры трепетали в раскаленном воздухе. Караул, караул! Пожар! Бегите, спасайтесь! Огонь крошил зеркала, как хрупкий зимний лед. А голоса причитали: «Пожар, пожар, бегите, спасайтесь!» Словно печальная детская песенка, которую в двенадцать голосов, кто громче, кто тише, пели умирающие дети, брошенные в глухом лесу. Но голоса умолкали один за другим по мере того, как лопалась, подобно жареным каштанам, изоляция на проводах. Два, три, четыре, пять голосов заглохли.
В детской комнате пламя объяло джунгли. Рычали голубые львы, скакали пурпурные жирафы. Пантеры метались по кругу, поминутно меняя окраску; десять миллионов животных, спасаясь от огня, бежали к кипящей реке вдали…
Еще десять голосов умерли. В последний миг сквозь гул огневой лавины можно было различить хор других, сбитых с толку голосов, еще объявлялось время, играла музыка, метались по газону телеуправляемые косилки, обезумевший зонт прыгал взад-вперед через порог наружной двери, которая непрерывно то затворялась, то отворялась, — одновременно происходила тысяча вещей, как в часовой мастерской, когда множество часов вразнобой лихорадочно отбивают время: то был безумный хаос, спаянный в некое единство; песни, крики, и последние мыши-мусорщики храбро выскакивали из нор — расчистить, убрать этот ужасный, отвратительный пепел! А один голос с полнейшим пренебрежением к происходящему декламировал стихи в пылающем кабинете, пока не сгорели все пленки, не расплавились провода, не рассыпались все схемы.
И наконец, пламя взорвало дом, и он рухнул пластом, разметав каскады дыма и искр.
На кухне, за мгновение до того, как посыпались головни и горящие балки, плита с сумасшедшей скоростью готовила завтраки: десять десятков яиц, шесть батонов тостов, двести ломтей бекона — и все, все пожирал огонь, понуждая задыхающуюся печь истерически стряпать еще и еще!
Грохот. Чердак провалился в кухню и в гостиную, гостиная — в цокольный этаж, цокольный этаж — в подвал. Холодильники, кресла, ролики с фильмами, кровати, электрические приборы — все рухнуло вниз обугленными скелетами.
Дым и тишина. Огромные клубы дыма.
На востоке медленно занимался рассвет. Только одна стена осталась стоять среди развалин. Из этой стены говорил последний одинокий голос, солнце уже осветило дымящиеся обломки, а он все твердил:
— Сегодня 5 августа 2026 года, сегодня 5 августа 2026 года, сегодня…
Октябрь 2026.
Но огонь был хитер, он послал языки пламени по наружной стене вверх, на чердак, где стояли насосы. Взрыв! Электронный мозг, управлявший насосами, бронзовой шрапнелью вонзился в балки.
Потом огонь метнулся назад и обошел все чуланы, щупая висящую там одежду.
Дом содрогнулся, стуча дубовыми костями, его оголенный скелет корчился от жара, сеть проводов — его нервы — обнажилась, словно некий хирург содрал с него кожу, чтобы красные вены и капилляры трепетали в раскаленном воздухе. Караул, караул! Пожар! Бегите, спасайтесь! Огонь крошил зеркала, как хрупкий зимний лед. А голоса причитали: «Пожар, пожар, бегите, спасайтесь!» Словно печальная детская песенка, которую в двенадцать голосов, кто громче, кто тише, пели умирающие дети, брошенные в глухом лесу. Но голоса умолкали один за другим по мере того, как лопалась, подобно жареным каштанам, изоляция на проводах. Два, три, четыре, пять голосов заглохли.
В детской комнате пламя объяло джунгли. Рычали голубые львы, скакали пурпурные жирафы. Пантеры метались по кругу, поминутно меняя окраску; десять миллионов животных, спасаясь от огня, бежали к кипящей реке вдали…
Еще десять голосов умерли. В последний миг сквозь гул огневой лавины можно было различить хор других, сбитых с толку голосов, еще объявлялось время, играла музыка, метались по газону телеуправляемые косилки, обезумевший зонт прыгал взад-вперед через порог наружной двери, которая непрерывно то затворялась, то отворялась, — одновременно происходила тысяча вещей, как в часовой мастерской, когда множество часов вразнобой лихорадочно отбивают время: то был безумный хаос, спаянный в некое единство; песни, крики, и последние мыши-мусорщики храбро выскакивали из нор — расчистить, убрать этот ужасный, отвратительный пепел! А один голос с полнейшим пренебрежением к происходящему декламировал стихи в пылающем кабинете, пока не сгорели все пленки, не расплавились провода, не рассыпались все схемы.
И наконец, пламя взорвало дом, и он рухнул пластом, разметав каскады дыма и искр.
На кухне, за мгновение до того, как посыпались головни и горящие балки, плита с сумасшедшей скоростью готовила завтраки: десять десятков яиц, шесть батонов тостов, двести ломтей бекона — и все, все пожирал огонь, понуждая задыхающуюся печь истерически стряпать еще и еще!
Грохот. Чердак провалился в кухню и в гостиную, гостиная — в цокольный этаж, цокольный этаж — в подвал. Холодильники, кресла, ролики с фильмами, кровати, электрические приборы — все рухнуло вниз обугленными скелетами.
Дым и тишина. Огромные клубы дыма.
На востоке медленно занимался рассвет. Только одна стена осталась стоять среди развалин. Из этой стены говорил последний одинокий голос, солнце уже осветило дымящиеся обломки, а он все твердил:
— Сегодня 5 августа 2026 года, сегодня 5 августа 2026 года, сегодня…
Октябрь 2026.
— Ух ты, тайна!
— Собственной ракеты испугался, — признался отец маме. — Нервы! Смешно даже подумать, будто здесь могут появиться другие ракеты. Разве что еще одна прилетит: если Эдвардс с женой сумеют добраться.
Он снова поднес к уху маленький приемник. Через две минуты рука его упала, словно тряпичная.
— Все, конец, — сказал он маме. — Только что прекратила работу станция на атомном луче. Другие станции Земли давно молчат. В последние годы их всего-то было две-три. Теперь в эфире мертвая тишина. Видно, надолго.
— На сколько? — спросил Роберт.
— Может быть… может быть, ваши правнуки снова услышат радио, — ответил отец. Он сидел понурившись, и детям передалось то, что он чувствовал: смирение, отчаяние, покорность.
Потом он опять вывел лодку на главный канал, и они продолжали путь.
Вечерело. Солнце уже склонилось к горизонту; впереди простирались чередой мертвые города.
Отец говорил с сыновьями ласковым, ровным голосом. Прежде он часто бывал сух, замкнут, неприступен, теперь же — они это чувствовали — папа будто гладил их по голове своими словами.
— Майкл, выбирай город.
— Что, папа?
— Выбирай город, сынок. Любой город, какой тут нам подвернется.
— Ладно, — сказал Майкл. — А как выбирать?
— Какой тебе больше нравится. И ты, Роберт, и Тим тоже. Выбирайте себе город по вкусу.
— Я хочу такой город, чтобы в нем были марсиане, — сказал Майкл.
— Будут марсиане, — ответил отец. — Обещаю. — Его губы обращались к сыновьям, но глаза смотрели на маму.
За двадцать минут они миновали шесть городов. Отец больше не поминал про взрывы, теперь для него как будто важнее всего на свете было веселить сыновей, чтобы им стало радостно.
Майклу понравился первый же город, но его отвергли, решив, что поспешные решения — не самые лучшие. Второй город никому не приглянулся. Его построили земляне, и деревянные стены домов уже превратились в труху. Третий город пришелся по душе Тимоти тем, что он был большой. Четвертый и пятый всем показались слишком маленькими, зато шестой у всех, даже у мамы, вызвал восторженные крики. «Ух ты!», «Блеск!», «Вот это да!».
Тут сохранилось в целости около полусотни огромных зданий, улицы были хоть и пыльные, но мощеные. Два-три старинных центробежных фонтана еще пульсировали влагой на площадях, и прерывистые струи, освещенные лучами заходящего солнца, были единственным проявлением жизни во всем городе.
— Здесь, — дружно сказали все.
Отец подвел лодку к пристани и выскочил на берег.
— Что ж, приехали. Все это — наше. Теперь будем жить здесь!
— Будем жить? — Майкл опешил. Он поднялся на ноги, глядя на город, потом повернулся лицом в ту сторону, где они оставили ракету. — А как же ракета? Как Миннесота?
— Вот, — сказал папа. Он прижал маленький радиоприемник к русой головенке Майкла. — Слушай. Майкл прислушался.
— Ничего, — сказал он.
— Верно. Ничего. Ничего не осталось. Никакого Миннеаполиса, никаких ракет, никакой Земли.
Майкл поразмыслил немного над этим страшным откровением и тихонько захныкал.
— Погоди, Майкл, — поспешно сказал папа. — Я дам тебе взамен гораздо больше!
— Что? — Любопытство задержало слезы, но Майкл был готов сейчас же дать им волю, если дальнейшие откровения отца окажутся такими же печальными, как первое.
— Я дарю тебе этот город, Майкл. Он твой.
— Мой?
— Твой, Роберта и Тимоти, ваш собственный город, на троих.
Тимоти выпрыгнул из лодки.
— Глядите, ребята, все наше! Все-все!
Он играл наравне с отцом, играл великолепно, всю душу вкладывал. После, когда все уляжется и устроится, он, возможно, уйдет куда-нибудь минут на десять и поплачет наедине. Но сейчас идет игра «семья на каникулах», и братишки должны играть.
Майкл и Роберт выскочили на берег. Они помогли выйти на пристань маме.
— Берегите сестренку, — сказал папа, лишь много позднее они поняли, что он подразумевал.
И они быстро-быстро пошли в большой розовокаменный город, разговаривая шепотом — в мертвых городах почему то хочется говорить шепотом, хочется смотреть на закат.
— Дней через пять, — тихо сказал отец, — я вернусь туда, где была наша ракета, и заберу продукты, которые мы спрятали в развалинах. Заодно поищу Берта Эдвардса с женой и дочерьми.
— Дочерьми? — повторил Тимоти. — Сколько их?
— Четыре.
— Как бы потом из-за этого неприятностей не было. — Мама медленно покачала головой.
— Девчонки. — Майкл скроил рожу, напоминающую каменные физиономии марсианских истукан
— Ух ты, тайна!
— Собственной ракеты испугался, — признался отец маме. — Нервы! Смешно даже подумать, будто здесь могут появиться другие ракеты. Разве что еще одна прилетит: если Эдвардс с женой сумеют добраться.
Он снова поднес к уху маленький приемник. Через две минуты рука его упала, словно тряпичная.
— Все, конец, — сказал он маме. — Только что прекратила работу станция на атомном луче. Другие станции Земли давно молчат. В последние годы их всего-то было две-три. Теперь в эфире мертвая тишина. Видно, надолго.
— На сколько? — спросил Роберт.
— Может быть… может быть, ваши правнуки снова услышат радио, — ответил отец. Он сидел понурившись, и детям передалось то, что он чувствовал: смирение, отчаяние, покорность.
Потом он опять вывел лодку на главный канал, и они продолжали путь.
Вечерело. Солнце уже склонилось к горизонту; впереди простирались чередой мертвые города.
Отец говорил с сыновьями ласковым, ровным голосом. Прежде он часто бывал сух, замкнут, неприступен, теперь же — они это чувствовали — папа будто гладил их по голове своими словами.
— Майкл, выбирай город.
— Что, папа?
— Выбирай город, сынок. Любой город, какой тут нам подвернется.
— Ладно, — сказал Майкл. — А как выбирать?
— Какой тебе больше нравится. И ты, Роберт, и Тим тоже. Выбирайте себе город по вкусу.
— Я хочу такой город, чтобы в нем были марсиане, — сказал Майкл.
— Будут марсиане, — ответил отец. — Обещаю. — Его губы обращались к сыновьям, но глаза смотрели на маму.
За двадцать минут они миновали шесть городов. Отец больше не поминал про взрывы, теперь для него как будто важнее всего на свете было веселить сыновей, чтобы им стало радостно.
Майклу понравился первый же город, но его отвергли, решив, что поспешные решения — не самые лучшие. Второй город никому не приглянулся. Его построили земляне, и деревянные стены домов уже превратились в труху. Третий город пришелся по душе Тимоти тем, что он был большой. Четвертый и пятый всем показались слишком маленькими, зато шестой у всех, даже у мамы, вызвал восторженные крики. «Ух ты!», «Блеск!», «Вот это да!».
Тут сохранилось в целости около полусотни огромных зданий, улицы были хоть и пыльные, но мощеные. Два-три старинных центробежных фонтана еще пульсировали влагой на площадях, и прерывистые струи, освещенные лучами заходящего солнца, были единственным проявлением жизни во всем городе.
— Здесь, — дружно сказали все.
Отец подвел лодку к пристани и выскочил на берег.
— Что ж, приехали. Все это — наше. Теперь будем жить здесь!
— Будем жить? — Майкл опешил. Он поднялся на ноги, глядя на город, потом повернулся лицом в ту сторону, где они оставили ракету. — А как же ракета? Как Миннесота?
— Вот, — сказал папа. Он прижал маленький радиоприемник к русой головенке Майкла. — Слушай. Майкл прислушался.
— Ничего, — сказал он.
— Верно. Ничего. Ничего не осталось. Никакого Миннеаполиса, никаких ракет, никакой Земли.
Майкл поразмыслил немного над этим страшным откровением и тихонько захныкал.
— Погоди, Майкл, — поспешно сказал папа. — Я дам тебе взамен гораздо больше!
— Что? — Любопытство задержало слезы, но Майкл был готов сейчас же дать им волю, если дальнейшие откровения отца окажутся такими же печальными, как первое.
— Я дарю тебе этот город, Майкл. Он твой.
— Мой?
— Твой, Роберта и Тимоти, ваш собственный город, на троих.
Тимоти выпрыгнул из лодки.
— Глядите, ребята, все наше! Все-все!
Он играл наравне с отцом, играл великолепно, всю душу вкладывал. После, когда все уляжется и устроится, он, возможно, уйдет куда-нибудь минут на десять и поплачет наедине. Но сейчас идет игра «семья на каникулах», и братишки должны играть.
Майкл и Роберт выскочили на берег. Они помогли выйти на пристань маме.
— Берегите сестренку, — сказал папа, лишь много позднее они поняли, что он подразумевал.
И они быстро-быстро пошли в большой розовокаменный город, разговаривая шепотом — в мертвых городах почему то хочется говорить шепотом, хочется смотреть на закат.
— Дней через пять, — тихо сказал отец, — я вернусь туда, где была наша ракета, и заберу продукты, которые мы спрятали в развалинах. Заодно поищу Берта Эдвардса с женой и дочерьми.
— Дочерьми? — повторил Тимоти. — Сколько их?
— Четыре.
— Как бы потом из-за этого неприятностей не было. — Мама медленно покачала головой.
— Девчонки. — Майкл скроил рожу, напоминающую каменные физиономии марсианских истукан
Хочешь моар, не пиши сюда больше и жди сентября.
Нюфаня.
Самолеты Ту-95 и Ту-160 своими выдающимися достижениями во многом обязаны другим талантливым главным конструкторам ОКБ Туполева Н. И. Базенкову и В. И. Близнюку. И, конечно же, неоценима роль в создании этих и других самолетов ОКБ его генерального конструктора.
А.Н. Туполев собрал вокруг себя неповторимую когорту выдающихся специалистов разных направений, успешно грудившихся в одной упряжке в течение нескольких десятилетий,.. Среди них люди легендарные: А. А. Архангельский, С. М. Егер, В. М. Мясищев, В. М. Петляков, А. И. Путилов, П. О. Сухой, А. М. Черемухин... Трудно переоценить то, что Андрей Николаевич сделал не только для своего ОКБ, но и для ЦАГИ, для всей отечественной авиации...
Самолет Ту-16 называют средним дальним бомбардировщиком. Машиной этого класса — средним стратегическим бомбардировщиком — был также самолет фирмы «Боинг» В-47 «Стратоджет». Он пришел на смену «Летающей крепости» В-29 (как впоследствии и Ту-16 стал заменой нашей «летающей крепости» Ту-4). В-47 имел помимо прочего две принципиальные особенности: турбореактивные двигатели и стреловидное крыло. И то и другое — итог весьма удачного прямого и косвенного влияния
Самолеты Ту-95 и Ту-160 своими выдающимися достижениями во многом обязаны другим талантливым главным конструкторам ОКБ Туполева Н. И. Базенкову и В. И. Близнюку. И, конечно же, неоценима роль в создании этих и других самолетов ОКБ его генерального конструктора.
А.Н. Туполев собрал вокруг себя неповторимую когорту выдающихся специалистов разных направений, успешно грудившихся в одной упряжке в течение нескольких десятилетий,.. Среди них люди легендарные: А. А. Архангельский, С. М. Егер, В. М. Мясищев, В. М. Петляков, А. И. Путилов, П. О. Сухой, А. М. Черемухин... Трудно переоценить то, что Андрей Николаевич сделал не только для своего ОКБ, но и для ЦАГИ, для всей отечественной авиации...
Самолет Ту-16 называют средним дальним бомбардировщиком. Машиной этого класса — средним стратегическим бомбардировщиком — был также самолет фирмы «Боинг» В-47 «Стратоджет». Он пришел на смену «Летающей крепости» В-29 (как впоследствии и Ту-16 стал заменой нашей «летающей крепости» Ту-4). В-47 имел помимо прочего две принципиальные особенности: турбореактивные двигатели и стреловидное крыло. И то и другое — итог весьма удачного прямого и косвенного влияния
Новые имена
Они пришли и заняли удивительные голубые земли и всему дали свои имена. Появились ручей Хинкстон-Крик и поляна Люстиг-Корнерс, река Блэк-Ривер и лес Дрисколл-Форест, гора Перегрин-Маунтин и город Уайлдертаун — все в честь людей и того, что совершили люди. Там, где марсиане убили первых землян, появился Редтаун — название, связанное с кровью. А вот здесь погибла Вторая экспедиция — отсюда название: Вторая Попытка; и всюду, где космонавты при посадке опалили землю своими огненными снарядами, остались имена — словно кучи шлака; не обошлось, разумеется, без горы Спендер-Хилл и города с длинным названием Натаниел-Йорк…
Старые марсианские названия были названия воды, воздуха, гор. Названия снегов, которые, тая на юге, стекали в каменные русла каналов, питающих высохшие моря. Имена чародеев, чей прах покоился в склепах, названия башен и обелисков. И ракеты, подобно молотам, обрушились на эти имена, разбивая вдребезги мрамор, кроша фаянсовые тумбы с названиями старых городов, и над грудами обломков выросли огромные пилоны с новыми указателями: АЙРОНТАУН, СТИЛТАУН, АЛЮМИНИУМ— СИТИ, ЭЛЕКТРИК-ВИЛЛЕДЖ, КОРН-ТАУН, ГРЭЙН-ВИЛЛА, ДЕТРОЙТ II — знакомые механические, металлические названия с Земли.
А когда построили и окрестили города, появились кладбища, они тоже получили имена: Зеленый Уголок, Белые Мхи, Тихий Пригорок, Отдохни Малость — и первые покойники легли в свои могилы…
Когда же все было наколото на булавочки, чинно, аккуратно разложено по полочкам, когда все стало на свои места, города прочно утвердились и уединение стало почти невозможным — тогда-то с Земли стали прибывать искушенные и всезнающие. Они приезжали в гости и в отпуск, приезжали купить сувениры и сфотографироваться — «подышать марсианским воздухом»; они приезжали вести исследования и проводить в жизнь социологические законы; они привозили с собой свои звезды, кокарды, правила и уставы, не забыли прихватить и семена бюрократии, которая въедливым сорняком оплела Землю, и насадили их на Марсе всюду, где они только могли укорениться. Они стали законодателями быта и нравов; принялись направлять, наставлять и подталкивать на путь истинный тех самых людей, кто перебрался на Марс, чтобы избавиться от наставлений и назиданий.
И нет ничего удивительного в том, что кое-кто из подталкиваемых стал отбиваться…
Новые имена
Они пришли и заняли удивительные голубые земли и всему дали свои имена. Появились ручей Хинкстон-Крик и поляна Люстиг-Корнерс, река Блэк-Ривер и лес Дрисколл-Форест, гора Перегрин-Маунтин и город Уайлдертаун — все в честь людей и того, что совершили люди. Там, где марсиане убили первых землян, появился Редтаун — название, связанное с кровью. А вот здесь погибла Вторая экспедиция — отсюда название: Вторая Попытка; и всюду, где космонавты при посадке опалили землю своими огненными снарядами, остались имена — словно кучи шлака; не обошлось, разумеется, без горы Спендер-Хилл и города с длинным названием Натаниел-Йорк…
Старые марсианские названия были названия воды, воздуха, гор. Названия снегов, которые, тая на юге, стекали в каменные русла каналов, питающих высохшие моря. Имена чародеев, чей прах покоился в склепах, названия башен и обелисков. И ракеты, подобно молотам, обрушились на эти имена, разбивая вдребезги мрамор, кроша фаянсовые тумбы с названиями старых городов, и над грудами обломков выросли огромные пилоны с новыми указателями: АЙРОНТАУН, СТИЛТАУН, АЛЮМИНИУМ— СИТИ, ЭЛЕКТРИК-ВИЛЛЕДЖ, КОРН-ТАУН, ГРЭЙН-ВИЛЛА, ДЕТРОЙТ II — знакомые механические, металлические названия с Земли.
А когда построили и окрестили города, появились кладбища, они тоже получили имена: Зеленый Уголок, Белые Мхи, Тихий Пригорок, Отдохни Малость — и первые покойники легли в свои могилы…
Когда же все было наколото на булавочки, чинно, аккуратно разложено по полочкам, когда все стало на свои места, города прочно утвердились и уединение стало почти невозможным — тогда-то с Земли стали прибывать искушенные и всезнающие. Они приезжали в гости и в отпуск, приезжали купить сувениры и сфотографироваться — «подышать марсианским воздухом»; они приезжали вести исследования и проводить в жизнь социологические законы; они привозили с собой свои звезды, кокарды, правила и уставы, не забыли прихватить и семена бюрократии, которая въедливым сорняком оплела Землю, и насадили их на Марсе всюду, где они только могли укорениться. Они стали законодателями быта и нравов; принялись направлять, наставлять и подталкивать на путь истинный тех самых людей, кто перебрался на Марс, чтобы избавиться от наставлений и назиданий.
И нет ничего удивительного в том, что кое-кто из подталкиваемых стал отбиваться…
Эшер II
«Весь этот день — тусклый, темный, беззвучный осенний день — я ехал верхом в полном одиночестве по необычайно пустынной местности, над которой низко нависали свинцовые тучи, и наконец, когда вечерние тени легли на землю, очутился перед унылой усадьбой Эшера…»
Мистер Уильям Стендаль перестал читать. Вот она перед ним, на невысоком черном пригорке — Усадьба, и на угловом камне начертано: 2005 год.
Мистер Бигелоу, архитектор, сказал:
— Дом готов. Примите ключ, мистер Стендаль.
Они помолчали, стоя рядом, в тишине осеннего дня. На черной как вороново крыло траве у их ног шуршали чертежи.
— Дом Эшеров, — удовлетворенно произнес мистер Стендаль. — Спроектирован, выстроен, куплен, оплачен. Думаю, мистер По был бы в восторге!
Мистер Бигелоу прищурился.
— Все отвечает вашим пожеланиям, сэр?
— Да!
— Колорит такой, какой нужен? Картина тоскливая и ужасная?
— Чрезвычайно ужасная, чрезвычайно тоскливая!
— Стены — угрюмые?
— Поразительно!
— Пруд достаточно «черный и мрачный»?
— Невообразимо черный и мрачный.
— А осока — она окрашена, как вам известно, — в меру чахлая и седая?
— До отвращения!
Мистер Бигелоу сверился с архитектурным проектом. Он процитировал задание:
— Весь ансамбль внушает «леденящую, ноющую, сосущую боль сердца, безотрадную пустоту в мыслях»? Дом, пруд, усадьба?..
— Вы поработали на славу, мистер Бигелоу! Клянусь, это изумительно!
— Благодарю. Я ведь совершенно не понимал, что от меня требуется. Слава богу, что у вас есть свои ракеты, иначе нам никогда не позволили бы перебросить сюда необходимое оборудование. Обратите внимание, здесь постоянные сумерки, в этом уголке всегда октябрь, всегда пустынно, безжизненно, мертво. Это стоило нам немалых трудов. Десять тысяч тонн ДДТ. Мы все убили. Ни змеи, ни лягушки, ни одной марсианской мухи не осталось! Вечные сумерки, мистер Стендаль, это моя гордость. Скрытые машины глушат солнечный свет. Здесь всегда «безотрадно».
Стендаль упивался безотрадностью, свинцовой тяжестью, удушливыми испарениями, всей «атмосферой», задуманной и созданной с таким искусством. А сам Дом! Угрюмая обветшалость, зловещий пруд, плесень, призраки всеобщего тления! Синтетические материалы или еще что-нибудь? Поди угадай.
Он взглянул на осеннее небо. Где-то вверху, вдали, далеко-далеко — солнце. Где— то на планете — марсианский апрель, золотой апрель, голубое небо. Где-то вверху прожигают себе путь ракеты, призванные цивилизовать прекрасную, безжизненную планету. Визг и вой их стремительного полета глохнул в этом тусклом звуконепроницаемом мире, в этом мире дремучей осени.
— Теперь, когда задание выполнено, — смущенно заговорил мистер Бигелоу, — могу я спросить, что вы собираетесь делать со всем этим?
— С усадьбой Эшер? Вы не догадались?
— Нет.
— Название «Эшер» вам ничего не говорит?
— Ничего.
— Ну а такое имя: Эдгар Алан По?
Мистер Бигелоу отрицательно покачал головой.
— Разумеется. — Стендаль сдержанно фыркнул, выражая печаль и презрение. — Откуда вам знать блаженной памяти мистера По? Он умер очень давно, раньше Линкольна. Все его книги были сожжены на Великом Костре. Тридцать лет назад, в 1975.
— До отвращения!
Мистер Бигелоу сверился с архитектурным проектом. Он процитировал задание:
— Весь ансамбль внушает «леденящую, ноющую, сосущую боль сердца, безотрадную пустоту в мыслях»? Дом, пруд, усадьба?..
— Вы поработали на славу, мистер Бигелоу! Клянусь, это изумительно!
— Благодарю. Я ведь совершенно не понимал, что от меня требуется. Слава богу, что у вас есть свои ракеты, иначе нам никогда не позволили бы перебросить сюда необходимое оборудование. Обратите внимание, здесь постоянные сумерки, в этом уголке всегда октябрь, всегда пустынно, безжизненно, мертво. Это стоило нам немалых трудов. Десять тысяч тонн ДДТ. Мы все убили. Ни змеи, ни лягушки, ни одной марсианской мухи не осталось! Вечные сумерки, мистер Стендаль, это моя гордость. Скрытые машины глушат солнечный свет. Здесь всегда «безотрадно».
Стендаль упивался безотрадностью, свинцовой тяжестью, удушливыми испарениями, всей «атмосферой», задуманной и созданной с таким искусством. А сам Дом! Угрюмая обветшалость, зловещий пруд, плесень, призраки всеобщего тления! Синтетические материалы или еще что-нибудь? Поди угадай.
Он взглянул на осеннее небо. Где-то вверху, вдали, далеко-далеко — солнце. Где— то на планете — марсианский апрель, золотой апрель, голубое небо. Где-то вверху прожигают себе путь ракеты, призванные цивилизовать прекрасную, безжизненную планету. Визг и вой их стремительного полета глохнул в этом тусклом звуконепроницаемом мире, в этом мире дремучей осени.
— Теперь, когда задание выполнено, — смущенно заговорил мистер Бигелоу, — могу я спросить, что вы собираетесь делать со всем этим?
— С усадьбой Эшер? Вы не догадались?
— Нет.
— Название «Эшер» вам ничего не говорит?
— Ничего.
— Ну а такое имя: Эдгар Алан По?
Мистер Бигелоу отрицательно покачал головой.
— Разумеется. — Стендаль сдержанно фыркнул, выражая печаль и презрение. — Откуда вам знать блаженной памяти мистера По? Он умер очень давно, раньше Линкольна. Все его книги были сожжены на Великом Костре. Тридцать лет назад, в 1975.
Анон, если тебе она так понравилась, то ты можешь сделать ей приятно, а именно затопить эту помойку.
Ничего больше не будет
Прекрасная девушка выглянула в окно навстречу ночному ветерку и спустила вниз золотые косы. И косы, сплетаясь, развеваясь, стали лестницей, по которой смеющиеся гости могли подняться в Дом.
Самые видные социологи! Самые проницательные психологи! Самые что ни на есть выдающиеся политики бактериологи, психоневрологи! Вот они все тут, между серых стен.
— Добро пожаловать!
Мистер Трайон, мистер Оуэн, мистер Данн, мистер Лэнг, мистер Стеффенс, мистер Флетчер и еще две дюжины знаменитостей.
— Входите, входите!
Мисс Гиббс, мисс Поуп, мисс Черчилль, мисс Блат, мисс Драммонд и еще два десятка блестящих женщин.
Все без исключения видные виднейшие лица, члены Общества Борьбы с фантазиями, поборники запрета старых праздников — «всех святых» и Гая Фокса, убийцы летучих мышей, истребители книг, факельщики, все без исключения добропорядочные незапятнанные граждане, которые предоставили людям попроще, погрубее первыми прилететь на Марс, похоронить марсиан, очистить от заразы поселения, построить города, отремонтировать дороги и вообще устранить всякие непорядки. А уж потом, когда прочно утвердилась Безопасность, эти Душители Радости, эти субъекты с формалином вместо крови и с глазами цвета йодной настойки явились насаждать свой Нравственный Климат и милостиво наделять всех добродетелями. И все они — его друзья! Да-да, в прошлом году на Земле он неназойливо, осторожно с каждым из них познакомился, каждому выказал свое расположение.
— Добро пожаловать в безбрежные покои Смерти! — крикнул он.
— Послушайте, Стендаль, что все это значит?
— Увидите. Всем раздеться! Вон там есть кабины. Наденьте костюмы, которые там приготовлены. Мужчины — в эту сторону, женщины — в ту.
Гости стояли в некотором замешательстве.
— Не знаю, прилично ли нам оставаться, — сказала мисс Поуп. — Не нравится мне здесь. Это… это похоже на кощунство.
— Чепуха, костюмированный бал!
Люди на верандах вскинули вверх руки, точно хотели загасить пламя.
Они ждали.
К полуночи пожар потух. Земля осталась на своем месте. И по верандам осенним ветерком пронесся вздох.
— Давненько мы ничего не слышали от Гарри.
— А что ему делается.
— Надо бы послать весточку маме.
— Она жива-здорова.
— Ты уверен?
— Ладно, ты только не тревожься.
— Думаешь, с ней ничего не приключилось?
— Конечно же, пошли-ка спать.
Но никто не уходил. На ночные газоны вынесли остывший ужин, накрыли складные столы, и люди вяло ковыряли пищу вилками до двух часов ночи, когда с Земли долетело послание светового радио. Словно далекие светлячки, мерцали мощные вспышки морзянки, и они читали:
АВСТРАЛИЙСКИЙ МАТЕРИК ОБРАЩЕН В ПЫЛЬ НЕПРЕДВИДЕННЫМ ВЗРЫВОМ АТОМНОГО СКЛАДА.
ЛОС АНДЖЕЛЕС, ЛОНДОН ПОДВЕРГНУТЫ БОМБАРДИРОВКЕ.
ВОЙНА. ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ДОМОЙ. ДОМОЙ. ДОМОЙ
Они поднялись из-за столов.
ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ДОМОЙ. ДОМОЙ, ДОМОЙ
— Ты в этом году получал что-нибудь от своего брата Теда?
— Будто не знаешь: послать письмо на Землю стоит пять монет. Не очень-то распишешься.
ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ДОМОЙ
— Меня что-то Джейн беспокоит — помнишь Джейн, мою младшую сестричку?
Люди на верандах вскинули вверх руки, точно хотели загасить пламя.
Они ждали.
К полуночи пожар потух. Земля осталась на своем месте. И по верандам осенним ветерком пронесся вздох.
— Давненько мы ничего не слышали от Гарри.
— А что ему делается.
— Надо бы послать весточку маме.
— Она жива-здорова.
— Ты уверен?
— Ладно, ты только не тревожься.
— Думаешь, с ней ничего не приключилось?
— Конечно же, пошли-ка спать.
Но никто не уходил. На ночные газоны вынесли остывший ужин, накрыли складные столы, и люди вяло ковыряли пищу вилками до двух часов ночи, когда с Земли долетело послание светового радио. Словно далекие светлячки, мерцали мощные вспышки морзянки, и они читали:
АВСТРАЛИЙСКИЙ МАТЕРИК ОБРАЩЕН В ПЫЛЬ НЕПРЕДВИДЕННЫМ ВЗРЫВОМ АТОМНОГО СКЛАДА.
ЛОС АНДЖЕЛЕС, ЛОНДОН ПОДВЕРГНУТЫ БОМБАРДИРОВКЕ.
ВОЙНА. ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ДОМОЙ. ДОМОЙ. ДОМОЙ
Они поднялись из-за столов.
ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ДОМОЙ. ДОМОЙ, ДОМОЙ
— Ты в этом году получал что-нибудь от своего брата Теда?
— Будто не знаешь: послать письмо на Землю стоит пять монет. Не очень-то распишешься.
ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ДОМОЙ
— Меня что-то Джейн беспокоит — помнишь Джейн, мою младшую сестричку?
«Дорожные товары»
Уж очень далекой она показалась, эта новость, которую владелец магазина дорожных товаров услышал вечером по радио, когда модулированный световой луч принес последние известия с Земли. Просто непостижимо.
На Земле назревала война.
Он вышел и посмотрел на небо.
Вот она. Земля, на вечернем небосводе, догоняет закатившееся за горы солнце. Эта зеленая звезда и есть то, о чем говорило радио.
— Не могу поверить, — сказал лавочник.
— Это потому, что вы не там, — заметил отец Перегрин, он подошел поздороваться.
— Как это понять, святой отец?
— Вот так же было, когда я был мальчишкой, — сказал отец Перегрин. — Мы слышали о войнах в Китае. Но нам не верилось. Это было слишком далеко. И слишком много людей там погибало. Невозможно себе представить. Даже когда мы смотрели фильмы оттуда, нам не верилось. Так и теперь. Земля — тот же Китай. Слишком далеко, вот и не верится. Это не здесь, не у нас. Не то что пощупать, даже разглядеть нельзя. Зеленый огонек — вот все, что мы видим. И на этом зеленом огоньке живет два миллиарда людей? Невероятно! Война? Но мы не слышим взрывов.
— Услышим, — сказал лавочник. — Я вот все думаю о тех людях, которые должны прилететь сюда на этой неделе. Как там передавали про них? В течение ближайшего месяца на Марс прибудет около ста тысяч человек — так, кажется. Что с ними будет, если начнется война?
— Повернут назад, наверно.
— Н-да, — сказал лавочник. — Ладно, пойду-ка я сотру пыль с чемоданов. Того и гляди покупатели нагрянут.
— Думаете, если это та Большая война, которой мы ждали много лет, все захотят вернуться на Землю?
— Вот именно, святой отец: как это ни странно, я думаю, мы все захотим вернуться. Конечно, мы прилетели сюда, спасаясь от политики, от атомной бомбы, войны, влиятельных клик, предрассудков, законов. Все это мне известно. Но родина-то все-таки там. Вот увидите. Как только на Америку упадет первая бомба, здешний народ призадумается. Слишком мало они тут прожили — каких-нибудь два года. Если бы лет сорок, тогда другое дело, а сейчас ведь у них на Земле родня, города, в которых они выросли. Я-то, можно сказать, в Землю даже не верю, для меня она как бы и не существует. Но я старик, от меня все равно никакого проку. Я могу и тут остаться.
— Вряд ли.
— Пожалуй, что вы правы.
Они стояли на террасе, глядя на звезды. Потом отец Перегрин достал из кармана деньги и подал их хозяину магазина.
— Кстати, подберите-ка мне чемодан. А то мой старый очень уж истрепался…
«Дорожные товары»
Уж очень далекой она показалась, эта новость, которую владелец магазина дорожных товаров услышал вечером по радио, когда модулированный световой луч принес последние известия с Земли. Просто непостижимо.
На Земле назревала война.
Он вышел и посмотрел на небо.
Вот она. Земля, на вечернем небосводе, догоняет закатившееся за горы солнце. Эта зеленая звезда и есть то, о чем говорило радио.
— Не могу поверить, — сказал лавочник.
— Это потому, что вы не там, — заметил отец Перегрин, он подошел поздороваться.
— Как это понять, святой отец?
— Вот так же было, когда я был мальчишкой, — сказал отец Перегрин. — Мы слышали о войнах в Китае. Но нам не верилось. Это было слишком далеко. И слишком много людей там погибало. Невозможно себе представить. Даже когда мы смотрели фильмы оттуда, нам не верилось. Так и теперь. Земля — тот же Китай. Слишком далеко, вот и не верится. Это не здесь, не у нас. Не то что пощупать, даже разглядеть нельзя. Зеленый огонек — вот все, что мы видим. И на этом зеленом огоньке живет два миллиарда людей? Невероятно! Война? Но мы не слышим взрывов.
— Услышим, — сказал лавочник. — Я вот все думаю о тех людях, которые должны прилететь сюда на этой неделе. Как там передавали про них? В течение ближайшего месяца на Марс прибудет около ста тысяч человек — так, кажется. Что с ними будет, если начнется война?
— Повернут назад, наверно.
— Н-да, — сказал лавочник. — Ладно, пойду-ка я сотру пыль с чемоданов. Того и гляди покупатели нагрянут.
— Думаете, если это та Большая война, которой мы ждали много лет, все захотят вернуться на Землю?
— Вот именно, святой отец: как это ни странно, я думаю, мы все захотим вернуться. Конечно, мы прилетели сюда, спасаясь от политики, от атомной бомбы, войны, влиятельных клик, предрассудков, законов. Все это мне известно. Но родина-то все-таки там. Вот увидите. Как только на Америку упадет первая бомба, здешний народ призадумается. Слишком мало они тут прожили — каких-нибудь два года. Если бы лет сорок, тогда другое дело, а сейчас ведь у них на Земле родня, города, в которых они выросли. Я-то, можно сказать, в Землю даже не верю, для меня она как бы и не существует. Но я старик, от меня все равно никакого проку. Я могу и тут остаться.
— Вряд ли.
— Пожалуй, что вы правы.
Они стояли на террасе, глядя на звезды. Потом отец Перегрин достал из кармана деньги и подал их хозяину магазина.
— Кстати, подберите-ка мне чемодан. А то мой старый очень уж истрепался…
Мертвый сезон
Сэм Паркхилл лихо махал метлой, выметая голубой марсианский песок.
— Вот и все! — сказал он. — Прошу, сэр, полюбуйтесь! — Он показал рукой. — Взгляните на вывеску «ГОРЯЧИЕ СОСИСКИ СЭМА»! Красота — правда, Эльма?
— Правда, Сэм, — подтвердила его супруга.
— Во, куда я махнул! Увидели бы меня теперь ребята из Четвертой экспедиции. Слава богу, свое дело завел, а они все еще солдатскую лямку тянут. Мы будем тысячи загребать, Эльма, тысячи!
Жена смотрела на него и молчала.
— Куда девался капитан Уайлдер? — спросила она наконец. — Твой начальник, который убил этого типа, ну, что задумал всех землян перебить — как его фамилия?..
— Этого психа-то? Спендер. Чистоплюй проклятый. Да, насчет капитана Уайлдера… На Юпитер полетел, говорят. С повышением, так сказать. Сдается мне, Марс и ему тоже в голову ударил. Раздражительный больно стал, не дай бог. Лет через двадцать вернется с Юпитера и Плутона, если повезет. Будет знать, как трепать языком. Вот так-то — он там от мороза сдыхает, а я тут, смотри, что наворочал! Местечко-то какое!
Два заброшенных шоссе встречались здесь и вновь расходились, исчезая во мраке. У самого перекрестка Сэм Паркхилл воздвиг из вздувшегося заклепками алюминия сооружение, залитое ослепительным белым светом и дрожащее от рева автомата-радиолы.
Он нагнулся, чтобы поправить окаймляющий дорожку бордюр из битого стекла. Стекло он выломал в старинных марсианских зданиях в горах.
— Лучшие горячие сосиски на двух планетах! Первый торговец сосисками на Марсе! Лук, перец, горчица — все лучшего качества! Что-что, а растяпой меня не назовешь! Вот вам две магистрали, вон мертвый город, а вон там рудники. Грузовики из 101 Сеттльмента будут идти мимо нас двадцать четыре часа в сутки. Скажешь, плохое я место выбрал?
Жена разглядывала свои ногти.
— Ты думаешь, эти десять тысяч новых ракет с рабочими прилетят на Марс? — сказала она наконец.
— Не пройдет и месяца, — уверенно ответил он. — Чего ты кривишься?
— Не очень-то я полагаюсь на эту публику, там, на Земле, — ответила она. — Вот когда сама увижу десять тысяч ракет и сто тысяч мексиканцев и китайцев, тогда и поверю.
— Покупателей, — он посмаковал это слово. — Сто тысяч голодных клиентов!
— Только бы не было атомной войны, — медленно произнесла жена, глядя на небо. — Эти атомные бомбы мне покою не дают. Их уже столько накопилось на Земле, всякое может случиться.
Сэм только фыркнул в ответ и продолжал подметать. Уголком глаза он уловил голубое мерцание. Что-то бесшумно парило в воздухе за его спиной. Он услышал голос жены:
— Сэм, тут к тебе приятель явился.
Сэм повернулся и увидел качающуюся на ветру маску.
— Опять пришел! — Сэм взял метлу наперевес.
Мертвый сезон
Сэм Паркхилл лихо махал метлой, выметая голубой марсианский песок.
— Вот и все! — сказал он. — Прошу, сэр, полюбуйтесь! — Он показал рукой. — Взгляните на вывеску «ГОРЯЧИЕ СОСИСКИ СЭМА»! Красота — правда, Эльма?
— Правда, Сэм, — подтвердила его супруга.
— Во, куда я махнул! Увидели бы меня теперь ребята из Четвертой экспедиции. Слава богу, свое дело завел, а они все еще солдатскую лямку тянут. Мы будем тысячи загребать, Эльма, тысячи!
Жена смотрела на него и молчала.
— Куда девался капитан Уайлдер? — спросила она наконец. — Твой начальник, который убил этого типа, ну, что задумал всех землян перебить — как его фамилия?..
— Этого психа-то? Спендер. Чистоплюй проклятый. Да, насчет капитана Уайлдера… На Юпитер полетел, говорят. С повышением, так сказать. Сдается мне, Марс и ему тоже в голову ударил. Раздражительный больно стал, не дай бог. Лет через двадцать вернется с Юпитера и Плутона, если повезет. Будет знать, как трепать языком. Вот так-то — он там от мороза сдыхает, а я тут, смотри, что наворочал! Местечко-то какое!
Два заброшенных шоссе встречались здесь и вновь расходились, исчезая во мраке. У самого перекрестка Сэм Паркхилл воздвиг из вздувшегося заклепками алюминия сооружение, залитое ослепительным белым светом и дрожащее от рева автомата-радиолы.
Он нагнулся, чтобы поправить окаймляющий дорожку бордюр из битого стекла. Стекло он выломал в старинных марсианских зданиях в горах.
— Лучшие горячие сосиски на двух планетах! Первый торговец сосисками на Марсе! Лук, перец, горчица — все лучшего качества! Что-что, а растяпой меня не назовешь! Вот вам две магистрали, вон мертвый город, а вон там рудники. Грузовики из 101 Сеттльмента будут идти мимо нас двадцать четыре часа в сутки. Скажешь, плохое я место выбрал?
Жена разглядывала свои ногти.
— Ты думаешь, эти десять тысяч новых ракет с рабочими прилетят на Марс? — сказала она наконец.
— Не пройдет и месяца, — уверенно ответил он. — Чего ты кривишься?
— Не очень-то я полагаюсь на эту публику, там, на Земле, — ответила она. — Вот когда сама увижу десять тысяч ракет и сто тысяч мексиканцев и китайцев, тогда и поверю.
— Покупателей, — он посмаковал это слово. — Сто тысяч голодных клиентов!
— Только бы не было атомной войны, — медленно произнесла жена, глядя на небо. — Эти атомные бомбы мне покою не дают. Их уже столько накопилось на Земле, всякое может случиться.
Сэм только фыркнул в ответ и продолжал подметать. Уголком глаза он уловил голубое мерцание. Что-то бесшумно парило в воздухе за его спиной. Он услышал голос жены:
— Сэм, тут к тебе приятель явился.
Сэм повернулся и увидел качающуюся на ветру маску.
— Опять пришел! — Сэм взял метлу наперевес.
— Мистер Паркхилл, я опять пришел поговорить с вами, — произнес голос из-под маски.
— Тебе же сказано, чтобы духу твоего здесь не было! — гаркнул Сэм. — Убирайся, не то Болезнь напущу!
— У меня уже была Болезнь, — ответил голос. — Я один из немногих, кто выжил. Я очень долго болел.
— Убирайся в свои горы и сиди там, где тебе положено. Чего ты сюда ходишь, пристаешь ко мне. Ни с того ни с сего. Да еще по два раза на день.
— Мы не причиним вам зла.
— Зато я вам причиню! — сказал Сэм, пятясь. — Я иностранцев не люблю. И марсиан не люблю. До сих пор ни одного не видел. Вообще чертовщина какая-то! Столько лет сидели где-то, прятались, и вдруг, на тебе, я им понадобился. Оставьте меня в покое.
— У нас к вам важное дело, — сказала голубая маска.
— Если это насчет участка, то он мой. Я построил сосисочную собственными руками.
— В известном смысле да, по поводу участка.
— Ну вот что, послушай-ка меня, — ответил Сэм. — Я сам из Нью-Йорка. Это огромный город; там еще десять миллионов таких, как я. А вас, марсиан, всего дюжина-другая осталась. Городов у вас нет, бродите по горам, ни властей, ни законов, и ты еще начинаешь мне про участок толковать. Заруби себе на носу: старое должно уступать место новому. Лучше разойдемся полюбовно. При мне пистолет, вот он. Нынче утром, как ты ушел, я сразу его достал и зарядил.
— Мы, марсиане — телепаты, — сказала бесстрастная голубая маска. — У нас есть связь с одним из ваших городов по ту сторону мертвого моря. Вы сегодня слушали радио?
— Мой приемник скис.
— Значит, вам ничего неизвестно. Очень важные новости. Это касается Земли.
Серебряная рука сделала движение, и в ней появилась бронзовая трубка.
— Позвольте показать вам вот это.
— Пистолет! — вскричал Сэм Паркхилл.
Выхватив из кобуры свой пистолет, он открыл огонь по туманному силуэту, по одеждам, по голубой маске.
Маска на миг застыла в воздухе. Потом шелк зашуршал и мягко, складка за складкой, опал, будто крохотный цирковой шатер, у которого выбили стойки, серебряные руки тренькнули о мощеную дорожку, и маска накрыла безгласную маленькую кучку белых костей и ткани.
У Сэма перехватило дыхание.
Его жена, пошатываясь, стояла над останками марсианина.
— Это не оружие, — сказала она, нагибаясь и поднимая бронзовую трубку. — Это, видно, письмо. Он его хотел показать тебе. Оно написано какой-то змеиной азбукой, видишь — все одни голубые змеи. Не умею читать эти знаки. А ты?
— Нет. Что в них проку-то было, в этих марсианских пиктограммах? Брось ее! — Он воровато оглянулся по сторонам. — Ну, как другие еще нагрянут! Надо убрать его с глаз долой Неси-ка лопату!
— Что ты собираешься делать?
— Закопать его, что же еще?
— Не надо было убивать его.
— Ну, ошибся, подумаешь. Пошевеливайся!
Она молча принесла ему лопату.
— Мистер Паркхилл, я опять пришел поговорить с вами, — произнес голос из-под маски.
— Тебе же сказано, чтобы духу твоего здесь не было! — гаркнул Сэм. — Убирайся, не то Болезнь напущу!
— У меня уже была Болезнь, — ответил голос. — Я один из немногих, кто выжил. Я очень долго болел.
— Убирайся в свои горы и сиди там, где тебе положено. Чего ты сюда ходишь, пристаешь ко мне. Ни с того ни с сего. Да еще по два раза на день.
— Мы не причиним вам зла.
— Зато я вам причиню! — сказал Сэм, пятясь. — Я иностранцев не люблю. И марсиан не люблю. До сих пор ни одного не видел. Вообще чертовщина какая-то! Столько лет сидели где-то, прятались, и вдруг, на тебе, я им понадобился. Оставьте меня в покое.
— У нас к вам важное дело, — сказала голубая маска.
— Если это насчет участка, то он мой. Я построил сосисочную собственными руками.
— В известном смысле да, по поводу участка.
— Ну вот что, послушай-ка меня, — ответил Сэм. — Я сам из Нью-Йорка. Это огромный город; там еще десять миллионов таких, как я. А вас, марсиан, всего дюжина-другая осталась. Городов у вас нет, бродите по горам, ни властей, ни законов, и ты еще начинаешь мне про участок толковать. Заруби себе на носу: старое должно уступать место новому. Лучше разойдемся полюбовно. При мне пистолет, вот он. Нынче утром, как ты ушел, я сразу его достал и зарядил.
— Мы, марсиане — телепаты, — сказала бесстрастная голубая маска. — У нас есть связь с одним из ваших городов по ту сторону мертвого моря. Вы сегодня слушали радио?
— Мой приемник скис.
— Значит, вам ничего неизвестно. Очень важные новости. Это касается Земли.
Серебряная рука сделала движение, и в ней появилась бронзовая трубка.
— Позвольте показать вам вот это.
— Пистолет! — вскричал Сэм Паркхилл.
Выхватив из кобуры свой пистолет, он открыл огонь по туманному силуэту, по одеждам, по голубой маске.
Маска на миг застыла в воздухе. Потом шелк зашуршал и мягко, складка за складкой, опал, будто крохотный цирковой шатер, у которого выбили стойки, серебряные руки тренькнули о мощеную дорожку, и маска накрыла безгласную маленькую кучку белых костей и ткани.
У Сэма перехватило дыхание.
Его жена, пошатываясь, стояла над останками марсианина.
— Это не оружие, — сказала она, нагибаясь и поднимая бронзовую трубку. — Это, видно, письмо. Он его хотел показать тебе. Оно написано какой-то змеиной азбукой, видишь — все одни голубые змеи. Не умею читать эти знаки. А ты?
— Нет. Что в них проку-то было, в этих марсианских пиктограммах? Брось ее! — Он воровато оглянулся по сторонам. — Ну, как другие еще нагрянут! Надо убрать его с глаз долой Неси-ка лопату!
— Что ты собираешься делать?
— Закопать его, что же еще?
— Не надо было убивать его.
— Ну, ошибся, подумаешь. Пошевеливайся!
Она молча принесла ему лопату.
— Жаль, конечно, что так получилось, — сказал он. Поглядел на жену, отвел глаза в сторону. — Сама видела, это случайно вышло, стечение обстоятельств.
— Да, — сказала жена.
— Меня такое зло взяло, когда он достал оружие.
— Какое оружие?
— Ну, мне показалось, что оружие! Я сожалею, сожалею! Сколько раз еще надо повторять!
— Tcc, — произнесла Эльма, поднося палец к губам. — Тсс.
— А мне наплевать, — сказал он. — Я не один — вся компания «Сеттльменты землян, инкорпорейтед» вступится, если что! — Он презрительно фыркнул. — Да эти марсиане и не посмеют…
— Смотри, — перебила его Эльма.
Сэм поглядел в сторону сухого моря. Он выронил из рук метлу, потом поднял ее; рот его был разинут, и крохотная капелька слюны сорвалась с губы и улетела по ветру. Его вдруг кинуло в дрожь.
— Эльма, Эльма, Эльма! — вырвалось у него.
— Вот они и пришли, — сказала Эльма.
По дну древнего моря, словно голубые призраки, голубые дымки, скользили десять— двенадцать высоких марсианских песчаных кораблей под голубыми парусами.
— Песчаные корабли! Но ведь их уже нет, Эльма, их не осталось.
— И все-таки это, похоже, их корабли, — сказала она.
— Как же так? Власти же их конфисковали! И все разломали, только несколько штук продали с аукциона! Во всей нашей округе я один купил эту посудину и знаю, как ее водить!
— Не осталось… — повторила она, кивая в сторону моря.
— Живо, нам надо убраться отсюда!
— Почему? — протяжно спросила она, завороженно глядя на марсианские корабли.
— Они убьют меня! В машину, скорей!
Эльма не двигалась с места.
Ему пришлось силой увести ее за сосисочную. Здесь стояли две машины: грузовик, на котором он постоянно разъезжал до недавнего времени, и старый марсианский песчаный корабль, который он потехи ради выторговал на аукционе. Последние три недели он возил на нем всякие грузы из-за моря, по гладкому дну. Только взглянув на грузовик, он вспомнил. Мотор лежал на земле — он уже два дня возился с его ремонтом.
— Грузовик вроде не на ходу, — заметила Эльма.
— Песчаный корабль! Садись скорей!
— Чтобы ты вез меня на этом корабле? О, нет.
— Садись! Я умею!
— Жаль, конечно, что так получилось, — сказал он. Поглядел на жену, отвел глаза в сторону. — Сама видела, это случайно вышло, стечение обстоятельств.
— Да, — сказала жена.
— Меня такое зло взяло, когда он достал оружие.
— Какое оружие?
— Ну, мне показалось, что оружие! Я сожалею, сожалею! Сколько раз еще надо повторять!
— Tcc, — произнесла Эльма, поднося палец к губам. — Тсс.
— А мне наплевать, — сказал он. — Я не один — вся компания «Сеттльменты землян, инкорпорейтед» вступится, если что! — Он презрительно фыркнул. — Да эти марсиане и не посмеют…
— Смотри, — перебила его Эльма.
Сэм поглядел в сторону сухого моря. Он выронил из рук метлу, потом поднял ее; рот его был разинут, и крохотная капелька слюны сорвалась с губы и улетела по ветру. Его вдруг кинуло в дрожь.
— Эльма, Эльма, Эльма! — вырвалось у него.
— Вот они и пришли, — сказала Эльма.
По дну древнего моря, словно голубые призраки, голубые дымки, скользили десять— двенадцать высоких марсианских песчаных кораблей под голубыми парусами.
— Песчаные корабли! Но ведь их уже нет, Эльма, их не осталось.
— И все-таки это, похоже, их корабли, — сказала она.
— Как же так? Власти же их конфисковали! И все разломали, только несколько штук продали с аукциона! Во всей нашей округе я один купил эту посудину и знаю, как ее водить!
— Не осталось… — повторила она, кивая в сторону моря.
— Живо, нам надо убраться отсюда!
— Почему? — протяжно спросила она, завороженно глядя на марсианские корабли.
— Они убьют меня! В машину, скорей!
Эльма не двигалась с места.
Ему пришлось силой увести ее за сосисочную. Здесь стояли две машины: грузовик, на котором он постоянно разъезжал до недавнего времени, и старый марсианский песчаный корабль, который он потехи ради выторговал на аукционе. Последние три недели он возил на нем всякие грузы из-за моря, по гладкому дну. Только взглянув на грузовик, он вспомнил. Мотор лежал на земле — он уже два дня возился с его ремонтом.
— Грузовик вроде не на ходу, — заметила Эльма.
— Песчаный корабль! Садись скорей!
— Чтобы ты вез меня на этом корабле? О, нет.
— Садись! Я умею!
Под яркими звездами голубые марсианские корабли стремительно скользили по шуршащим пескам. Корабль Сэма не двигался с места, пока он не вспомнил про якорь и не рванул его.
— Есть!
И сильный ветер помчал песчаный корабль по дну мертвого моря, над поглощенными песком глыбами хрусталя, мимо поваленных колонн, мимо заброшенных пристаней из мрамора и меди, мимо белых шахматных фигурок мертвых городов, мимо пурпурных предгорий и дальше, дальше… Очертания марсианских кораблей становились все меньше, пока они не помчались за Сэмом.
— Лихо я им нос утер! — крикнул Сэм. — А сейчас я заявлю в «Ракетную компанию», и мне дадут охрану. Скажи, что у меня не варит котелок!
— Они могли задержать тебя, если бы захотели, — устало ответила Эльма. — Просто им это не очень нужно.
Он засмеялся.
— Брось! С чего это им отпускать меня? Не догнали, вот и все!
— Не догнали? — Эльма кивком головы указала за его спину.
Сэм не обернулся. Его обдало холодом. Он боялся оглянуться. Он ощутил нечто там, на сиденье, за своей спиной, нечто эфемерное, как дыхание человека студеным утром, и голубое, словно плывущий в сумерках дым над горячими чурками гикори, нечто подобное старинным белым кружевам и летучему снегу, напоминающее иней на хрупком камыше.
Послышался звук, будто разбилось тонкое стекло: смех. И снова молчание. Он обернулся.
На корме, близ руля, спокойно сидела молодая женщина. Кисти рук тонкие, как сосульки, глаза яркие и большие, как луны, светлые, спокойные. Ветер овевал ее, и она колыхалась, совсем как отражение на воде, к складки шелка, как струи голубого дождя, порхали вокруг ее хрупкого тела.
— Поверните назад, — сказала она.
— Нет. — Сэма трясло мелкой трусливой дрожью, он дрожал, словно шершень, висящий в воздухе, он колебался на грани между страхом и злобой. — Прочь с моего корабля!
— Это не ваш корабль, — ответило видение. — Он такой же древний, как наш мир. Он ходил по пескам еще десять тысяч лет назад, когда моря улетучились и пристани опустели, а вы, пришельцы, похитили его, забрали себе. Но поверните же и возвратитесь к перекрестку. Нам нужно поговорить с вами. Произошло нечто очень важное.
— Прочь с моего корабля! — сказал Сэм. Кожаная кобура скрипнула, когда он вытащил пистолет. Он тщательно прицелился. — Прыгай, считаю до трех…
— Не надо! — вскричала девушка. — Я вам ничего дурного не сделаю. И другие тоже. Мы пришли с миром!
Под яркими звездами голубые марсианские корабли стремительно скользили по шуршащим пескам. Корабль Сэма не двигался с места, пока он не вспомнил про якорь и не рванул его.
— Есть!
И сильный ветер помчал песчаный корабль по дну мертвого моря, над поглощенными песком глыбами хрусталя, мимо поваленных колонн, мимо заброшенных пристаней из мрамора и меди, мимо белых шахматных фигурок мертвых городов, мимо пурпурных предгорий и дальше, дальше… Очертания марсианских кораблей становились все меньше, пока они не помчались за Сэмом.
— Лихо я им нос утер! — крикнул Сэм. — А сейчас я заявлю в «Ракетную компанию», и мне дадут охрану. Скажи, что у меня не варит котелок!
— Они могли задержать тебя, если бы захотели, — устало ответила Эльма. — Просто им это не очень нужно.
Он засмеялся.
— Брось! С чего это им отпускать меня? Не догнали, вот и все!
— Не догнали? — Эльма кивком головы указала за его спину.
Сэм не обернулся. Его обдало холодом. Он боялся оглянуться. Он ощутил нечто там, на сиденье, за своей спиной, нечто эфемерное, как дыхание человека студеным утром, и голубое, словно плывущий в сумерках дым над горячими чурками гикори, нечто подобное старинным белым кружевам и летучему снегу, напоминающее иней на хрупком камыше.
Послышался звук, будто разбилось тонкое стекло: смех. И снова молчание. Он обернулся.
На корме, близ руля, спокойно сидела молодая женщина. Кисти рук тонкие, как сосульки, глаза яркие и большие, как луны, светлые, спокойные. Ветер овевал ее, и она колыхалась, совсем как отражение на воде, к складки шелка, как струи голубого дождя, порхали вокруг ее хрупкого тела.
— Поверните назад, — сказала она.
— Нет. — Сэма трясло мелкой трусливой дрожью, он дрожал, словно шершень, висящий в воздухе, он колебался на грани между страхом и злобой. — Прочь с моего корабля!
— Это не ваш корабль, — ответило видение. — Он такой же древний, как наш мир. Он ходил по пескам еще десять тысяч лет назад, когда моря улетучились и пристани опустели, а вы, пришельцы, похитили его, забрали себе. Но поверните же и возвратитесь к перекрестку. Нам нужно поговорить с вами. Произошло нечто очень важное.
— Прочь с моего корабля! — сказал Сэм. Кожаная кобура скрипнула, когда он вытащил пистолет. Он тщательно прицелился. — Прыгай, считаю до трех…
— Не надо! — вскричала девушка. — Я вам ничего дурного не сделаю. И другие тоже. Мы пришли с миром!
— Сэм, — сказала Эльма.
— Выслушайте меня, — просила девушка.
— Два, — жестко произнес Сэм, взводя курок.
— Сэм! — крикнула Эльма.
— Три, — сказал Сэм.
— Мы только… — начала девушка.
Пистолет выстрелил.
В лучах солнца тает снег, кристаллики превращаются в пар, в ничто. В пламени очага пляшут и пропадают химеры. В кратере вулкана распадается, исчезает все хрупкое и непрочное. От выстрела, от огня, от удара девушка спалась, как легкий газовый шарф, растаяла, будто ледяная статуэтка. А все, что от нее осталось — льдинки, снежинки, дым, — унесло ветром. Кормовое сиденье опустело.
Сэм убрал пистолет в кобуру, избегая глядеть на жену.
Целую минуту слышен был лишь шелестящий бег корабля по песчаному морю, залитому лунным сиянием.
— Сэм, — сказала она наконец, — останови корабль.
Он обратил к ней бледное лицо.
— Нет, не бывать этому. После стольких лет ты меня не бросишь.
Она посмотрела на его руку, лежащую на рукоятке пистолета.
— Что ж, я верю, ты способен, — сказала она. — От тебя этого можно ждать.
Он замотал головой, сжимая пальцами руль.
— Эльма, не дури. Сейчас мы приедем в город и будем в безопасности!
— Да-да, — ответила его жена, безучастно откинувшись на спину.
— Эльма, выслушай меня.
— Тебе нечего сказать, Сэм.
— Эльма!
Они проносились мимо белого шахматного городка, и, одержимый бессильной яростью, Сэм выпустил одну за другой шесть пуль по хрустальным башням. Под грохот выстрелов город рассыпался ливнем старинного стекла и обломков кварца. Разбился вдребезги, растворился, будто он был вырезан из мыла. Города не стало. Сэм рассмеялся и выстрелил еще раз. Последняя башня, последняя шахматная фигурка загорелась, вспыхнула и взлетела голубыми черепками к звездам.
— Я им покажу! Я всем покажу!
— Давай, давай, Сэм, показывай. — Глухая тень скрывала ее лицо.
— А вот еще город! — Сэм снова зарядил пистолет. — Погляди, как я с ним расправлюсь!
А сзади стремительно надвигались, неумолимо вырастали контуры голубых кораблей— призраков. Сначала он даже не увидел их, только услышал свист и завывающую высокую ноту, будто сталь скрипела по песку: это бритвенно-острые носы песчаных кораблей резали поверхность морского дна. На голубых кораблях под красными и голубыми вымпелами стояли синие фигуры, люди в масках, люди с серебристыми лицами, с голубыми звездами вместо глаз, с лепными ушами из золота, отливающими металлом щеками и рубиновыми губами.
Они стояли, скрестив руки на груди. Это были марсиане, и они преследовали его.
Раз, два, три… Сэм считал. Марсианские корабли подошли вплотную к нему.
— Эльма, Эльма, я не отобьюсь от всех!
Эльма не ответила, даже не пошевелилась.
Сэм выстрелил восемь раз. Один песчаный корабль развалился на части, распались паруса, изумрудный корпус, его бронзовая оковка, лунно-белый руль и остальные образы. Люди в масках, все до одного, упали с корабля, зарылись в песок, и над каждым из них вспыхнуло пламя, сначала оранжевое, потом подернутое копотью.
Но остальные корабли продолжали приближаться.
— Их слишком много, Эльма! — вскричал он. — Они меня убьют!
Он выбросил якорь. Без толку. Парус порхнул вниз, ложась в складки, вздыхая. Корабль, ветер, движение — все остановилось. Казалось, весь Марс замер, когда величественные суда марсиан, окружив Сэма, вздыбились над ним.
— Землянин, — воззвал голос откуда-то с высоты. Одна из серебристых масок шевелилась, рубиновые губы поблескивали в такт словам.
— Я ничего не сделал! — Сэм смотрел на окружавшие его лица — их было не меньше ста.
На Марсе осталось очень мало марсиан — всего не больше ста — ста пятидесяти. И почти все они были здесь, на дне мертвого моря, на своих воскрешенных кораблях, возле вымерших шахматных городов, один из которых только что рассыпался осколками, как хрупкая ваза, пораженная камнем. Сверкали серебряные маски.
— Все это недоразумение, — взмолился он, привстав над бортом; жена его по— прежнему лежала замертво, свернувшись комочком, на дне корабля. — Я прилетел на Марс как честный предприимчивый бизнесмен, таких здесь много. Выстроил себе ларек из обломков разбившейся ракеты, ларек, сами видели, загляденье, на самом перекрестке, вы это местечко знаете. Сработано чисто, правда ведь? — Сэм захихикал, переводя взгляд с одного лица на другое. — А тут, значит, появляется этот марсианин, я знаю — он ваш приятель. Я его нечаянно убил, уверяю вас, это несчастный случай. Мне ничего не надо, я только хотел завести сосисочную, первую, единственную на Марсе, центральную, можно сказать. Понимаете? Подавать лучшие на всей планете горячие сосиски, черт возьми, с перцем и луком, и апельсиновый сок.
Серебряные маски неподвижно блестели в лунном свете. Светились устремленные на Сэма желтые глаза. Желудок его сжался в комок, в камень. Он швырнул пистолет на песок.
— Сдаюсь.
— Поднимите свой пистолет, — хором сказали марсиане.
— Что?
— Сэм, — сказала Эльма.
— Выслушайте меня, — просила девушка.
— Два, — жестко произнес Сэм, взводя курок.
— Сэм! — крикнула Эльма.
— Три, — сказал Сэм.
— Мы только… — начала девушка.
Пистолет выстрелил.
В лучах солнца тает снег, кристаллики превращаются в пар, в ничто. В пламени очага пляшут и пропадают химеры. В кратере вулкана распадается, исчезает все хрупкое и непрочное. От выстрела, от огня, от удара девушка спалась, как легкий газовый шарф, растаяла, будто ледяная статуэтка. А все, что от нее осталось — льдинки, снежинки, дым, — унесло ветром. Кормовое сиденье опустело.
Сэм убрал пистолет в кобуру, избегая глядеть на жену.
Целую минуту слышен был лишь шелестящий бег корабля по песчаному морю, залитому лунным сиянием.
— Сэм, — сказала она наконец, — останови корабль.
Он обратил к ней бледное лицо.
— Нет, не бывать этому. После стольких лет ты меня не бросишь.
Она посмотрела на его руку, лежащую на рукоятке пистолета.
— Что ж, я верю, ты способен, — сказала она. — От тебя этого можно ждать.
Он замотал головой, сжимая пальцами руль.
— Эльма, не дури. Сейчас мы приедем в город и будем в безопасности!
— Да-да, — ответила его жена, безучастно откинувшись на спину.
— Эльма, выслушай меня.
— Тебе нечего сказать, Сэм.
— Эльма!
Они проносились мимо белого шахматного городка, и, одержимый бессильной яростью, Сэм выпустил одну за другой шесть пуль по хрустальным башням. Под грохот выстрелов город рассыпался ливнем старинного стекла и обломков кварца. Разбился вдребезги, растворился, будто он был вырезан из мыла. Города не стало. Сэм рассмеялся и выстрелил еще раз. Последняя башня, последняя шахматная фигурка загорелась, вспыхнула и взлетела голубыми черепками к звездам.
— Я им покажу! Я всем покажу!
— Давай, давай, Сэм, показывай. — Глухая тень скрывала ее лицо.
— А вот еще город! — Сэм снова зарядил пистолет. — Погляди, как я с ним расправлюсь!
А сзади стремительно надвигались, неумолимо вырастали контуры голубых кораблей— призраков. Сначала он даже не увидел их, только услышал свист и завывающую высокую ноту, будто сталь скрипела по песку: это бритвенно-острые носы песчаных кораблей резали поверхность морского дна. На голубых кораблях под красными и голубыми вымпелами стояли синие фигуры, люди в масках, люди с серебристыми лицами, с голубыми звездами вместо глаз, с лепными ушами из золота, отливающими металлом щеками и рубиновыми губами.
Они стояли, скрестив руки на груди. Это были марсиане, и они преследовали его.
Раз, два, три… Сэм считал. Марсианские корабли подошли вплотную к нему.
— Эльма, Эльма, я не отобьюсь от всех!
Эльма не ответила, даже не пошевелилась.
Сэм выстрелил восемь раз. Один песчаный корабль развалился на части, распались паруса, изумрудный корпус, его бронзовая оковка, лунно-белый руль и остальные образы. Люди в масках, все до одного, упали с корабля, зарылись в песок, и над каждым из них вспыхнуло пламя, сначала оранжевое, потом подернутое копотью.
Но остальные корабли продолжали приближаться.
— Их слишком много, Эльма! — вскричал он. — Они меня убьют!
Он выбросил якорь. Без толку. Парус порхнул вниз, ложась в складки, вздыхая. Корабль, ветер, движение — все остановилось. Казалось, весь Марс замер, когда величественные суда марсиан, окружив Сэма, вздыбились над ним.
— Землянин, — воззвал голос откуда-то с высоты. Одна из серебристых масок шевелилась, рубиновые губы поблескивали в такт словам.
— Я ничего не сделал! — Сэм смотрел на окружавшие его лица — их было не меньше ста.
На Марсе осталось очень мало марсиан — всего не больше ста — ста пятидесяти. И почти все они были здесь, на дне мертвого моря, на своих воскрешенных кораблях, возле вымерших шахматных городов, один из которых только что рассыпался осколками, как хрупкая ваза, пораженная камнем. Сверкали серебряные маски.
— Все это недоразумение, — взмолился он, привстав над бортом; жена его по— прежнему лежала замертво, свернувшись комочком, на дне корабля. — Я прилетел на Марс как честный предприимчивый бизнесмен, таких здесь много. Выстроил себе ларек из обломков разбившейся ракеты, ларек, сами видели, загляденье, на самом перекрестке, вы это местечко знаете. Сработано чисто, правда ведь? — Сэм захихикал, переводя взгляд с одного лица на другое. — А тут, значит, появляется этот марсианин, я знаю — он ваш приятель. Я его нечаянно убил, уверяю вас, это несчастный случай. Мне ничего не надо, я только хотел завести сосисочную, первую, единственную на Марсе, центральную, можно сказать. Понимаете? Подавать лучшие на всей планете горячие сосиски, черт возьми, с перцем и луком, и апельсиновый сок.
Серебряные маски неподвижно блестели в лунном свете. Светились устремленные на Сэма желтые глаза. Желудок его сжался в комок, в камень. Он швырнул пистолет на песок.
— Сдаюсь.
— Поднимите свой пистолет, — хором сказали марсиане.
— Что?
Оксана, прекрати.
Первая на моей памяти рекордная эпопея на фирме прошла в 19б7 г., когда Федотов, Остапенко и Комаров установили несколько мировых рекордов, а мне, опальному за поломку самолета, пришлось остаться в стороне. Правда, призрачная возможность слетать на рекорд светила и мне, когда на летную станцию долго не приезжал военный летчик-испытатель Лесников, запланированный как раз на рекорд скороподъемности на 20 км: я даже пару раз слетал на динамический набор высоты, ведь полет на рекордную скороподъемность представляет собой своеобразную «горку» с переменным профилем и почти полной потерей скорости в конце набора. Но увы! Приехал Лесников, стал готовиться к полету, а я, так сказать, утерся... Игорю не повезло, он погиб, а установление рекорда отложили до лучших времен.
Спустя шесть лет было решено выполнить несколько попыток для установления рекордов скороподъемности на высоту 20, 25 и 30 км, а также рекорда высоты при наборе динамического потолка. На 25 и 30 км должен был лететь Остапенко, на потолок - Федотов, а на 20 км назначили меня.
Пару дней я изучал расчетные материалы по полету, выучил на память профиль полета, даже нарисовал его для верности на кусочке бумаги, который решил укрепить перед собой на приборной доске, как когда-то листок с пилотажным комплексом... 25 апреля ведущий инженер Владимир Сыровой подготовил задание и технику, механики заправили в самолет около четырех тонн керосина (только на дорогу вверх и на посадку, т. к. на высоте более 20 км и нулевой скорости двигатели работать не могут, придется их выключать и «сыпаться» вниз, почти не тратя топливо), я оделся в высотное обмундирование и пошел к самолету.
МиГ-25Р-3 был обычным разведчиком, не слишком уж и облегченным: излишнее снятие оборудования, не используемого в рекордном полете, значительно изменило бы центровку и могло привести к неустойчивости самолета по перегрузке. Поэтому облегчение производилось, в основном, за счет топлива. Перед взлетом я постоял пару минут на максимальных оборотах, чтобы обеспечить нормальную работу топливной системы при таком малом запасе керосина, потом включил форсаж и отпустил тормоза.
Первая на моей памяти рекордная эпопея на фирме прошла в 19б7 г., когда Федотов, Остапенко и Комаров установили несколько мировых рекордов, а мне, опальному за поломку самолета, пришлось остаться в стороне. Правда, призрачная возможность слетать на рекорд светила и мне, когда на летную станцию долго не приезжал военный летчик-испытатель Лесников, запланированный как раз на рекорд скороподъемности на 20 км: я даже пару раз слетал на динамический набор высоты, ведь полет на рекордную скороподъемность представляет собой своеобразную «горку» с переменным профилем и почти полной потерей скорости в конце набора. Но увы! Приехал Лесников, стал готовиться к полету, а я, так сказать, утерся... Игорю не повезло, он погиб, а установление рекорда отложили до лучших времен.
Спустя шесть лет было решено выполнить несколько попыток для установления рекордов скороподъемности на высоту 20, 25 и 30 км, а также рекорда высоты при наборе динамического потолка. На 25 и 30 км должен был лететь Остапенко, на потолок - Федотов, а на 20 км назначили меня.
Пару дней я изучал расчетные материалы по полету, выучил на память профиль полета, даже нарисовал его для верности на кусочке бумаги, который решил укрепить перед собой на приборной доске, как когда-то листок с пилотажным комплексом... 25 апреля ведущий инженер Владимир Сыровой подготовил задание и технику, механики заправили в самолет около четырех тонн керосина (только на дорогу вверх и на посадку, т. к. на высоте более 20 км и нулевой скорости двигатели работать не могут, придется их выключать и «сыпаться» вниз, почти не тратя топливо), я оделся в высотное обмундирование и пошел к самолету.
МиГ-25Р-3 был обычным разведчиком, не слишком уж и облегченным: излишнее снятие оборудования, не используемого в рекордном полете, значительно изменило бы центровку и могло привести к неустойчивости самолета по перегрузке. Поэтому облегчение производилось, в основном, за счет топлива. Перед взлетом я постоял пару минут на максимальных оборотах, чтобы обеспечить нормальную работу топливной системы при таком малом запасе керосина, потом включил форсаж и отпустил тормоза.
Орлов Б.А. 1973 год. Рекорд был установлен, но особой радости я не испытывал, т. к. видел, что смогу слетать лучше. К тому же Остапенко в полете на 25 км прошел 20 км быстрее, чем я: очевидно, теоретики рассчитали профиль полета на 20 км не совсем правильно. Я совсем приуныл, но руководство великодушно решило послать на утверждение в качестве мирового рекорда мой результат, вроде бы сделав мне «подарок», что тоже не на много улучшило мое настроение. Ведь я знал, что начинаю понимать поведение и характер машины в таком скоротечном режиме, видел, что есть резерв и у меня, и у самолета. Требовалось только немного изменить профиль полета с учетом данных, полученных в полете Остапенко, слетать еще хотя бы раз и я уверен, что результат получился бы лучше, и я уже законно стал бы владельцем рекорда.
А пока пришлось удовольствоваться достигнутым. Последовали интервью журналистам, телевидению, в общем, все, что полагается в таких случаях. Не скажу, чтобы эта суета была очень уж противна, скорее, наоборот, но меня не оставляло чувство некоторой неловкости. Множество испытателей прекрасно работают всю жизнь, в своей среде имеют заслуженный авторитет, но народу они неизвестны, редко кого упомянут в прессе при жизни, а тут слетал один раз, и знаменит!
Орлов Б.А. 1973 год. Рекорд был установлен, но особой радости я не испытывал, т. к. видел, что смогу слетать лучше. К тому же Остапенко в полете на 25 км прошел 20 км быстрее, чем я: очевидно, теоретики рассчитали профиль полета на 20 км не совсем правильно. Я совсем приуныл, но руководство великодушно решило послать на утверждение в качестве мирового рекорда мой результат, вроде бы сделав мне «подарок», что тоже не на много улучшило мое настроение. Ведь я знал, что начинаю понимать поведение и характер машины в таком скоротечном режиме, видел, что есть резерв и у меня, и у самолета. Требовалось только немного изменить профиль полета с учетом данных, полученных в полете Остапенко, слетать еще хотя бы раз и я уверен, что результат получился бы лучше, и я уже законно стал бы владельцем рекорда.
А пока пришлось удовольствоваться достигнутым. Последовали интервью журналистам, телевидению, в общем, все, что полагается в таких случаях. Не скажу, чтобы эта суета была очень уж противна, скорее, наоборот, но меня не оставляло чувство некоторой неловкости. Множество испытателей прекрасно работают всю жизнь, в своей среде имеют заслуженный авторитет, но народу они неизвестны, редко кого упомянут в прессе при жизни, а тут слетал один раз, и знаменит!
Американцы подготовили свой замечательный F-15 «Игл», даже смыли с него краску для облегчения, и побили все наши рекорды скороподъемности. Но и у нас в запасе кое-что имелось... После модификации двигателей Р-15Б-300 их тяга увеличилась почти в полтора раза; когда эти двигатели установили на МиГ-25, стало ясно, что мы получили новый самолет с превосходными характеристиками, и наши специалисты, проанализировав результаты испытательных полетов, пришли к выводу, что можно запросто перекрыть рекорды F-15 на 25 и 30 км, но на высоту 20 км новый МиГ выходил чуть позже «Игла».
Были организованы полеты на побитие рекордов, и Остапенко с Федотовым установили новые рекорды скороподъемности на высоту 30 и 25 км, а Федотов «сделал» рекорд на 35 км, вряд ли когда-нибудь будущий перекрытым! Мне дали слетать на попытку побития рекорда на 20 км, надеясь, что теория окажется слабее практики...
Эти два полета запомнились мне на всю жизнь. Тяга двух двигателей на старте составляла почти 30 тонн, взлетный вес самолета — около 24 тонн, т. к. топлива заправлялось немного. С зажатыми полностью тормозами самолет полз по бетону, время же полета исчислялось с момента страгивания с места, поэтому надо было чем-то удерживать самолет. Наши столяры сколотили две здоровенные деревянные колодки с привинченными внизу стальными уголками; эти уголки забивались в щели между плитами взлетной полосы, не позволяя сдвинуть колодки с места. Самолет тягачем осторожно накатывали на эти колодки, чтобы колеса вошли в их полукруглые вырезы, потом летчик запускал двигатели, «молотил» на максимальных оборотах две-три минуты для поддавливания топливных баков, включал форсаж, ждал несколько секунд полного розжига форсажных камер и отпускал тормоза. Самолет «сигал» через колодки и мчался по полосе, отрываясь от нее через шесть секунд!
Все необходимо было делать исключительно быстро и точно, потому что самолет мгновенно набирал скорость, на которой надо было лететь до высоты окончательного разгона. Выход на эту высоту производился «полубочкой», т. к обычным способом (отдачей ручки от себя) вывести самолет в горизонтальный полет можно было только с приличной отрицательной перегрузкой, не дозволенной ни по прочности самолета, ни по устойчивости работы двигателей. Далее выполнялся короткий разгон одновременно с выводом в нормальный полет, затем перевод в набор высоты с таким темпом, чтобы к высоте 17—18 км угол набора достиг 80°, почти до вертикали. Конечно, контроль высоты при скороподъемности, достигавшей 500 м/сек, был невозможен, все выполнялось по расчетному времени.
Знаменитый летчик И.Н.Кожедуб награждает нас за рекорды. Никогда не забуду картины, увиденной мной в одном из этих полетов: нос самолета почти вертикально задран в густо-синее небо, прямо передо мной ослепительно сияет необыкновенная, невиданной красоты луна, на которой, мне кажется, я могу различить даже кратеры (не потому, конечно, что я заметно к ней приблизился, а из-за абсолютной прозрачности воздуха, вернее, его отсутствия на высоте около 25 км); самолет замирает, потом медленно падает на хвост, и в этот момент в чернильном небе впереди меня возникают ярко-белые клубы паров керосина. Двигатели давно выключены, но РУДы стоят на «максимале», чтобы не прекращалась прокачка топлива через насосы, иначе они при больших оборотах авторотации на такой высоте без смазки керосином могут выйти из строя, вот при падении на хвост и оказались пары вытекающего топлива впереди самолета. Зрелище необычное и очень красивое! Потом самолет неторопливо опустил нос, повращался туда-сюда, неуправляемый, потихоньку набирая скорость и начиная слушаться рулей; на высоте 8 км я запустил двигатели и пошел на посадку.
Побить рекорд американцев мне не удалось, но
Американцы подготовили свой замечательный F-15 «Игл», даже смыли с него краску для облегчения, и побили все наши рекорды скороподъемности. Но и у нас в запасе кое-что имелось... После модификации двигателей Р-15Б-300 их тяга увеличилась почти в полтора раза; когда эти двигатели установили на МиГ-25, стало ясно, что мы получили новый самолет с превосходными характеристиками, и наши специалисты, проанализировав результаты испытательных полетов, пришли к выводу, что можно запросто перекрыть рекорды F-15 на 25 и 30 км, но на высоту 20 км новый МиГ выходил чуть позже «Игла».
Были организованы полеты на побитие рекордов, и Остапенко с Федотовым установили новые рекорды скороподъемности на высоту 30 и 25 км, а Федотов «сделал» рекорд на 35 км, вряд ли когда-нибудь будущий перекрытым! Мне дали слетать на попытку побития рекорда на 20 км, надеясь, что теория окажется слабее практики...
Эти два полета запомнились мне на всю жизнь. Тяга двух двигателей на старте составляла почти 30 тонн, взлетный вес самолета — около 24 тонн, т. к. топлива заправлялось немного. С зажатыми полностью тормозами самолет полз по бетону, время же полета исчислялось с момента страгивания с места, поэтому надо было чем-то удерживать самолет. Наши столяры сколотили две здоровенные деревянные колодки с привинченными внизу стальными уголками; эти уголки забивались в щели между плитами взлетной полосы, не позволяя сдвинуть колодки с места. Самолет тягачем осторожно накатывали на эти колодки, чтобы колеса вошли в их полукруглые вырезы, потом летчик запускал двигатели, «молотил» на максимальных оборотах две-три минуты для поддавливания топливных баков, включал форсаж, ждал несколько секунд полного розжига форсажных камер и отпускал тормоза. Самолет «сигал» через колодки и мчался по полосе, отрываясь от нее через шесть секунд!
Все необходимо было делать исключительно быстро и точно, потому что самолет мгновенно набирал скорость, на которой надо было лететь до высоты окончательного разгона. Выход на эту высоту производился «полубочкой», т. к обычным способом (отдачей ручки от себя) вывести самолет в горизонтальный полет можно было только с приличной отрицательной перегрузкой, не дозволенной ни по прочности самолета, ни по устойчивости работы двигателей. Далее выполнялся короткий разгон одновременно с выводом в нормальный полет, затем перевод в набор высоты с таким темпом, чтобы к высоте 17—18 км угол набора достиг 80°, почти до вертикали. Конечно, контроль высоты при скороподъемности, достигавшей 500 м/сек, был невозможен, все выполнялось по расчетному времени.
Знаменитый летчик И.Н.Кожедуб награждает нас за рекорды. Никогда не забуду картины, увиденной мной в одном из этих полетов: нос самолета почти вертикально задран в густо-синее небо, прямо передо мной ослепительно сияет необыкновенная, невиданной красоты луна, на которой, мне кажется, я могу различить даже кратеры (не потому, конечно, что я заметно к ней приблизился, а из-за абсолютной прозрачности воздуха, вернее, его отсутствия на высоте около 25 км); самолет замирает, потом медленно падает на хвост, и в этот момент в чернильном небе впереди меня возникают ярко-белые клубы паров керосина. Двигатели давно выключены, но РУДы стоят на «максимале», чтобы не прекращалась прокачка топлива через насосы, иначе они при больших оборотах авторотации на такой высоте без смазки керосином могут выйти из строя, вот при падении на хвост и оказались пары вытекающего топлива впереди самолета. Зрелище необычное и очень красивое! Потом самолет неторопливо опустил нос, повращался туда-сюда, неуправляемый, потихоньку набирая скорость и начиная слушаться рулей; на высоте 8 км я запустил двигатели и пошел на посадку.
Побить рекорд американцев мне не удалось, но
теплые, ламповые полетушки
Сердцу нужно отдохнуть.
Пусть влюбленными лучами
Месяц тянется к земле,
Не бродить уж нам ночами
В серебристой лунной мгле.
Земляне молча стояли в центре города. Ночь была ясна и безоблачна. Кроме свиста ветра — ни звука кругом. Перед ними расстилалась площадь, и плиточная мозаика изображала древних животных и людей. Они стояли и смотрели.
Биггс издал рыгающий звук. Глаза его помутнели. Руки метнулись ко рту, он судорожно глотнул, зажмурился, согнулся пополам. Густая струя наполнила рот и вырвалась, хлынула с плеском прямо на плиты, заливая изображения. Так повторилось дважды. В прохладном воздухе разнесся кислый винный запах. Никто не шевельнулся помочь Биггсу. Его продолжало тошнить.
Мгновение Спендер смотрел на него, затем повернулся и пошел прочь. В полном одиночестве он шел по озаренным луной улицам города и ни разу не остановился, чтобы оглянуться на своих товарищей.
Они легли спать около четырех утра. Вытянувшись на одеялах, закрыли глаза и вдыхали неподвижный воздух. Капитан Уайлдер сидел возле костра, подбрасывая в него сучья.
Два часа спустя Мак-Клюр открыл глаза.
— Вы не спите, командир?
— Жду Спендера. — Капитан слабо улыбнулся.
Мак-Клюр подумал.
— Знаете, командир, мне кажется, он не придет. Сам не знаю почему, но у меня такое чувство. Не придет он.
Мак-Клюр повернулся на другой бок. Огонь рассыпался трескучими искрами и потух.
Прошла целая неделя, а Спендер не появлялся. Капитан разослал на поиски его несколько отрядов, но они вернулись и доложили, что не понимают, куда он мог деться. Ничего, надоест шляться — сам придет. И вообще он нытик и брюзга. Ушел, и черт с ним!
Капитан промолчал, но записал все в корабельный журнал…
Однажды утром — это мог быть понедельник, или вторник, или любой иной марсианский день — Биггс сидел на краю канала, подставив лицо солнечным лучам и болтая ногами в прохладной воде.
Вдоль канала шел человек. Его тень упала на Биггса. Биггс открыл глаза.
— Будь я проклят! — воскликнул Биггс.
— Я последний марсианин, — сказал человек, доставая пистолет.
— Что ты сказал? — спросил Биггс.
— Я убью тебя.
— Брось. Что за глупые шутки, Спендер?
— Встань, умри, как мужчина.
— Бога ради, убери пистолет.
Спендер нажал курок только один раз. Мгновение Биггс еще сидел на краю канала, потом наклонился вперед и упал в воду. Выстрел был очень тихим — как шелест, как слабое жужжание. Тело медленно, отрешенно погрузилось в неторопливые струи канала, издавая глухой булькающий звук, который вскоре прекратился.
Спендер убрал пистолет в кобуру и неслышными шагами пошел дальше. Солнце светило сверху на Марс, его лучи припекали кожу рук, жарко гладили непроницаемое лицо Спендера. Он не стал бежать, шел так, будто с прошлого раза ничего не изменилось, если не считать, что теперь был день. Он подошел к ракете, несколько человек уписывали только что приготовленный завтрак под навесом, который оставил кок.
— А вот и наш Одинокий Волк идет, — сказал кто-то.
— Пришел, Спендер! Давненько не виделись!
Сердцу нужно отдохнуть.
Пусть влюбленными лучами
Месяц тянется к земле,
Не бродить уж нам ночами
В серебристой лунной мгле.
Земляне молча стояли в центре города. Ночь была ясна и безоблачна. Кроме свиста ветра — ни звука кругом. Перед ними расстилалась площадь, и плиточная мозаика изображала древних животных и людей. Они стояли и смотрели.
Биггс издал рыгающий звук. Глаза его помутнели. Руки метнулись ко рту, он судорожно глотнул, зажмурился, согнулся пополам. Густая струя наполнила рот и вырвалась, хлынула с плеском прямо на плиты, заливая изображения. Так повторилось дважды. В прохладном воздухе разнесся кислый винный запах. Никто не шевельнулся помочь Биггсу. Его продолжало тошнить.
Мгновение Спендер смотрел на него, затем повернулся и пошел прочь. В полном одиночестве он шел по озаренным луной улицам города и ни разу не остановился, чтобы оглянуться на своих товарищей.
Они легли спать около четырех утра. Вытянувшись на одеялах, закрыли глаза и вдыхали неподвижный воздух. Капитан Уайлдер сидел возле костра, подбрасывая в него сучья.
Два часа спустя Мак-Клюр открыл глаза.
— Вы не спите, командир?
— Жду Спендера. — Капитан слабо улыбнулся.
Мак-Клюр подумал.
— Знаете, командир, мне кажется, он не придет. Сам не знаю почему, но у меня такое чувство. Не придет он.
Мак-Клюр повернулся на другой бок. Огонь рассыпался трескучими искрами и потух.
Прошла целая неделя, а Спендер не появлялся. Капитан разослал на поиски его несколько отрядов, но они вернулись и доложили, что не понимают, куда он мог деться. Ничего, надоест шляться — сам придет. И вообще он нытик и брюзга. Ушел, и черт с ним!
Капитан промолчал, но записал все в корабельный журнал…
Однажды утром — это мог быть понедельник, или вторник, или любой иной марсианский день — Биггс сидел на краю канала, подставив лицо солнечным лучам и болтая ногами в прохладной воде.
Вдоль канала шел человек. Его тень упала на Биггса. Биггс открыл глаза.
— Будь я проклят! — воскликнул Биггс.
— Я последний марсианин, — сказал человек, доставая пистолет.
— Что ты сказал? — спросил Биггс.
— Я убью тебя.
— Брось. Что за глупые шутки, Спендер?
— Встань, умри, как мужчина.
— Бога ради, убери пистолет.
Спендер нажал курок только один раз. Мгновение Биггс еще сидел на краю канала, потом наклонился вперед и упал в воду. Выстрел был очень тихим — как шелест, как слабое жужжание. Тело медленно, отрешенно погрузилось в неторопливые струи канала, издавая глухой булькающий звук, который вскоре прекратился.
Спендер убрал пистолет в кобуру и неслышными шагами пошел дальше. Солнце светило сверху на Марс, его лучи припекали кожу рук, жарко гладили непроницаемое лицо Спендера. Он не стал бежать, шел так, будто с прошлого раза ничего не изменилось, если не считать, что теперь был день. Он подошел к ракете, несколько человек уписывали только что приготовленный завтрак под навесом, который оставил кок.
— А вот и наш Одинокий Волк идет, — сказал кто-то.
— Пришел, Спендер! Давненько не виделись!
— Дались тебе эти проклятые развалины, — усмехнулся кок, помешивая какое-то черное варево в миске. — Ну, чисто голодный пес, который до костей дорвался.
— Возможно, — ответил Спендер. — Мне надо было кое-что выяснить. Что вы скажете, если я вам сообщу, что видел здесь по соседству марсианина?
Четверо космонавтов отложили свои вилки.
— Марсианина? Где?
— Это не важно. Позвольте мне задать вам один вопрос. Как бы вы себя чувствовали на месте марсиан, если бы в вашу страну явились люди и стали бы все громить?
— Я-то знаю, что бы я чувствовал, — сказал Чероки. — В моих жилах есть кровь племени чероков. Мой дед немало мне порассказал из истории Оклахомы. Так что, если тут остались марсиане, я их понимаю.
— А вы? — осторожно спросил Спендер остальных.
Никто не ответил, молчание было достаточно красноречиво. Дескать, грабастай, сколько захватишь, что нашел — все твое, если ближний подставил щеку — вдарь покрепче, и так далее в том же духе.
— Ну, так вот, — сказал Спендер. — Я встретил марсианина.
Они недоверчиво смотрели на него.
— Там, в одном из мертвых поселений. Я и не подозревал, что встречу его. Даже не собирался искать. Не знаю, что он там делал. Эту неделю я прожил в маленьком городке, пытался разобрать древние письмена, изучал их старинное искусство. И вот однажды увидел марсианина. Он только на миг появился и тут же пропал. Потом дня два не показывался. Я сидел над письменами, когда он снова пришел. И так несколько раз, с каждым разом все ближе и ближе. В тот день, когда я наконец освоил марсианский язык, — это удивительно просто, и очень помогают пиктограммы — марсианин появился передо мной и сказал: «Дайте мне ваши башмаки». Я отдал ему башмаки, а он говорит: «Дайте мне ваше обмундирование и все, что на вас надето». Я все отдал, он опять: «Дайте пистолет». Подаю пистолет. Тогда он говорит: «А теперь пойдемте со мной и смотрите, что будет». И марсианин пошел в лагерь, и вот он здесь.
— Не вижу никакого марсианина, — возразил Чероки.
— Очень жаль.
Спендер выхватил из кобуры пистолет. Послышалось слабое жужжание. Первая пуля поразила крайнего слева, вторая и третья — крайнего справа и того, что сидел посредине. Кок испуганно обернулся от костра и был сражен четвертой пулей. Он упал плашмя в огонь и остался лежать, его одежда загорелась.
Ракета стояла, залитая солнцем. Три человека сидели за столом, и руки их неподвижно лежали возле тарелок, на которых остывал завтрак. Один Чероки, невредимый, с тупым недоумением глядел на Спендера.
— Можешь пойти со мной, — сказал Спендер.
Чероки не ответил.
— Слышишь, я принимаю тебя в свою компанию. — Спендер ждал.
Наконец к Чероки вернулся дар речи.
— Ты их убил, — произнес он и заставил себя взглянуть на сидящих напротив.
— Они это заслужили.
— Ты сошел с ума!
— Возможно. Но ты можешь пойти со мной.
— Пойти с тобой — зачем? — вскричал Чероки, мертвенно бледный, со слезами на глазах. — Уходи, убирайся прочь!
Лицо Спендера окаменело.
— Я-то думал, хоть ты меня поймешь.
— Убирайся! — Рука Чероки потянулась за пистолетом.
Спендер выстрелил в последний раз. Больше Чероки не двигался.
Зато покачнулся Спендер. Он провел ладонью по потному лицу. Он поглядел на ракету, и вдруг его начала бить дрожь. Он едва не упал, настолько сильна была реакция. Его лицо было лицом человека, который приходит в себя после гипноза, после сновидения. Он сел, чтобы справиться с дрожью.
— Перестать! Сейчас же! — приказал он своему телу.
Каждая клеточка судорожно дрожала.
— Перестань!
Он сжал тело в тисках воли, пока не выдавил из него всю дрожь, до последнего остатка. Теперь руки лежали спокойно на усмиренных коленях.
Он встал и с неторопливой тщательностью закрепил на спине ранец с продуктами. На какую-то крохотную долю секунды его руки опять задрожали, но Спендер очень решительно скомандовал: «Нет!», и дрожь прошла. И он побрел прочь на негнущихся ногах и затерялся среди раскаленных красных гор. Один.
— Дались тебе эти проклятые развалины, — усмехнулся кок, помешивая какое-то черное варево в миске. — Ну, чисто голодный пес, который до костей дорвался.
— Возможно, — ответил Спендер. — Мне надо было кое-что выяснить. Что вы скажете, если я вам сообщу, что видел здесь по соседству марсианина?
Четверо космонавтов отложили свои вилки.
— Марсианина? Где?
— Это не важно. Позвольте мне задать вам один вопрос. Как бы вы себя чувствовали на месте марсиан, если бы в вашу страну явились люди и стали бы все громить?
— Я-то знаю, что бы я чувствовал, — сказал Чероки. — В моих жилах есть кровь племени чероков. Мой дед немало мне порассказал из истории Оклахомы. Так что, если тут остались марсиане, я их понимаю.
— А вы? — осторожно спросил Спендер остальных.
Никто не ответил, молчание было достаточно красноречиво. Дескать, грабастай, сколько захватишь, что нашел — все твое, если ближний подставил щеку — вдарь покрепче, и так далее в том же духе.
— Ну, так вот, — сказал Спендер. — Я встретил марсианина.
Они недоверчиво смотрели на него.
— Там, в одном из мертвых поселений. Я и не подозревал, что встречу его. Даже не собирался искать. Не знаю, что он там делал. Эту неделю я прожил в маленьком городке, пытался разобрать древние письмена, изучал их старинное искусство. И вот однажды увидел марсианина. Он только на миг появился и тут же пропал. Потом дня два не показывался. Я сидел над письменами, когда он снова пришел. И так несколько раз, с каждым разом все ближе и ближе. В тот день, когда я наконец освоил марсианский язык, — это удивительно просто, и очень помогают пиктограммы — марсианин появился передо мной и сказал: «Дайте мне ваши башмаки». Я отдал ему башмаки, а он говорит: «Дайте мне ваше обмундирование и все, что на вас надето». Я все отдал, он опять: «Дайте пистолет». Подаю пистолет. Тогда он говорит: «А теперь пойдемте со мной и смотрите, что будет». И марсианин пошел в лагерь, и вот он здесь.
— Не вижу никакого марсианина, — возразил Чероки.
— Очень жаль.
Спендер выхватил из кобуры пистолет. Послышалось слабое жужжание. Первая пуля поразила крайнего слева, вторая и третья — крайнего справа и того, что сидел посредине. Кок испуганно обернулся от костра и был сражен четвертой пулей. Он упал плашмя в огонь и остался лежать, его одежда загорелась.
Ракета стояла, залитая солнцем. Три человека сидели за столом, и руки их неподвижно лежали возле тарелок, на которых остывал завтрак. Один Чероки, невредимый, с тупым недоумением глядел на Спендера.
— Можешь пойти со мной, — сказал Спендер.
Чероки не ответил.
— Слышишь, я принимаю тебя в свою компанию. — Спендер ждал.
Наконец к Чероки вернулся дар речи.
— Ты их убил, — произнес он и заставил себя взглянуть на сидящих напротив.
— Они это заслужили.
— Ты сошел с ума!
— Возможно. Но ты можешь пойти со мной.
— Пойти с тобой — зачем? — вскричал Чероки, мертвенно бледный, со слезами на глазах. — Уходи, убирайся прочь!
Лицо Спендера окаменело.
— Я-то думал, хоть ты меня поймешь.
— Убирайся! — Рука Чероки потянулась за пистолетом.
Спендер выстрелил в последний раз. Больше Чероки не двигался.
Зато покачнулся Спендер. Он провел ладонью по потному лицу. Он поглядел на ракету, и вдруг его начала бить дрожь. Он едва не упал, настолько сильна была реакция. Его лицо было лицом человека, который приходит в себя после гипноза, после сновидения. Он сел, чтобы справиться с дрожью.
— Перестать! Сейчас же! — приказал он своему телу.
Каждая клеточка судорожно дрожала.
— Перестань!
Он сжал тело в тисках воли, пока не выдавил из него всю дрожь, до последнего остатка. Теперь руки лежали спокойно на усмиренных коленях.
Он встал и с неторопливой тщательностью закрепил на спине ранец с продуктами. На какую-то крохотную долю секунды его руки опять задрожали, но Спендер очень решительно скомандовал: «Нет!», и дрожь прошла. И он побрел прочь на негнущихся ногах и затерялся среди раскаленных красных гор. Один.
Полыхающее солнце поднялось выше в небе. Час спустя капитан вылез из ракеты позавтракать. Он уже было открыл рот, чтобы поздороваться с космонавтами, сидящими за столом, но осекся, уловив в воздухе легкий запах пистолетного дыма. Он увидел, что кок лежит на земле, накрыв своим телом костер. Четверо сидели перед остывшим завтраком.
По трапу спустились Паркхилл и еще двое. Капитан стоял, загородив им путь, не в силах отвести глаз от молчаливых людей за столом, от их странных поз.
— Собрать всех людей! — приказал капитан.
Паркхилл побежал вдоль канала.
Капитан тронул рукой Чероки. Чероки медленно согнулся и упал со стула. Солнечные лучи осветили его жесткий ежик и скуластое лицо.
Экипаж собрался.
— Кого недостает?
— Все того же Спендера. Биггса мы нашли в канале.
— Спендер!
Капитан посмотрел на устремленные в дневное небо горы. Солнце высветило его зубы, обнаженные гримасой.
— Черт бы его побрал, — устало произнес капитан. — Почему он не пришел ко мне, я бы поговорил с ним.
— Нет, вот я бы с ним поговорил! — крикнул Паркхилл, яростно сверкнув глазами. — Я бы раскроил ему башку и выпустил мозги наружу!
Капитан Уайлдер кивком подозвал двоих.
— Возьмите лопаты, — сказал он.
Копать было жарко. С высохшего моря летел теплый ветер, он швырял им пыль в лицо, а капитан листал библию. Но вот он закрыл книгу, и с лопат на завернутые в ткань тела потекли медленные струи песка.
Они вернулись к ракете, щелкнули затворами своих винтовок, подвесили к поясу сзади связки гранат, проверили, легко ли вынимаются из кобуры пистолеты. Каждому был отведен определенный участок гор. Капитан говорил, куда кому идти, не повышая голоса, руки его вяло висели, он ни разу не шевельнул ими.
— Пошли, — сказал он.
Спендер увидел, как в разных концах долины поднимаются облачка пыли, и понял, что преследование началось по всем правилам. Он опустил плоскую серебряную книгу, которую читал, удобно примостившись на большом камне. Страницы книги были из чистейшего тонкого, как папиросная бумага, листового серебра, разрисованные от руки чернью и золотом. Это был философский трактат десятитысячелетней давности, найденный им в одной из вилл небольшого марсианского селения. Спендеру не хотелось отрываться от книги.
Он даже подумал сперва: «А стоит ли? Буду сидеть и читать, пока не придут и не убьют меня».
Утром, после того как он застрелил шесть человек, Спендер ощутил тупую опустошенность, потом его тошнило, и наконец им овладел странный покой. Но и это чувство было преходящим, потому что при виде пыли, которая обозначала путь преследователей, он снова ощутил ожесточение.
Он глотнул холодной воды из походной фляги. Потом встал, потянулся, зевнул и прислушался к упоительной тишине окружавшей его долины. Эх, если бы он и еще несколько людей оттуда, с Земли, могли вместе поселиться здесь и дожить свою жизнь без шума, без тревог…
Спендер взял в одну руку книгу, а в другую — пистолет. Рядом протекала быстрая речка с дном из белой гальки и большими камнями на берегах. Он разделся на камнях и вошел в воду ополоснуться. Он не спешил и, лишь поплескавшись вволю, оделся и снова взял пистолет.
Первые выстрелы раздались около трех часов дня. К этому времени Спендер ушел высоко в горы. Погоня шла следом. Миновали три горных марсианских городка. Над ними были разбросаны виллы марсиан.
Облюбовав себе зеленый лужок и быстрый ручей, древние марсианские семьи выложили из плиток бассейны, построили библиотеки, разбили сады с журчащими фонтанами. Спендер позволил себе поплавать с полчаса в наполненном дождевой водой бассейне, ожидая, когда приблизится погоня.
Покидая виллу, он услышал выстрелы. Позади него, в каких-нибудь пяти метрах, взорвался осколками кирпич. Спендер побежал, укрываясь за скальными выступами, обернулся и первым же выстрелом уложил наповал одного из преследователей.
Спендер знал, что его возьмут в кольцо и он окажется в ловушке. Окружат со всех сторон, и станут сходиться, и прикончат его. Странно даже, что они еще не пустили в ход гранаты. Капитану Уайлдеру достаточно слово сказать…
Полыхающее солнце поднялось выше в небе. Час спустя капитан вылез из ракеты позавтракать. Он уже было открыл рот, чтобы поздороваться с космонавтами, сидящими за столом, но осекся, уловив в воздухе легкий запах пистолетного дыма. Он увидел, что кок лежит на земле, накрыв своим телом костер. Четверо сидели перед остывшим завтраком.
По трапу спустились Паркхилл и еще двое. Капитан стоял, загородив им путь, не в силах отвести глаз от молчаливых людей за столом, от их странных поз.
— Собрать всех людей! — приказал капитан.
Паркхилл побежал вдоль канала.
Капитан тронул рукой Чероки. Чероки медленно согнулся и упал со стула. Солнечные лучи осветили его жесткий ежик и скуластое лицо.
Экипаж собрался.
— Кого недостает?
— Все того же Спендера. Биггса мы нашли в канале.
— Спендер!
Капитан посмотрел на устремленные в дневное небо горы. Солнце высветило его зубы, обнаженные гримасой.
— Черт бы его побрал, — устало произнес капитан. — Почему он не пришел ко мне, я бы поговорил с ним.
— Нет, вот я бы с ним поговорил! — крикнул Паркхилл, яростно сверкнув глазами. — Я бы раскроил ему башку и выпустил мозги наружу!
Капитан Уайлдер кивком подозвал двоих.
— Возьмите лопаты, — сказал он.
Копать было жарко. С высохшего моря летел теплый ветер, он швырял им пыль в лицо, а капитан листал библию. Но вот он закрыл книгу, и с лопат на завернутые в ткань тела потекли медленные струи песка.
Они вернулись к ракете, щелкнули затворами своих винтовок, подвесили к поясу сзади связки гранат, проверили, легко ли вынимаются из кобуры пистолеты. Каждому был отведен определенный участок гор. Капитан говорил, куда кому идти, не повышая голоса, руки его вяло висели, он ни разу не шевельнул ими.
— Пошли, — сказал он.
Спендер увидел, как в разных концах долины поднимаются облачка пыли, и понял, что преследование началось по всем правилам. Он опустил плоскую серебряную книгу, которую читал, удобно примостившись на большом камне. Страницы книги были из чистейшего тонкого, как папиросная бумага, листового серебра, разрисованные от руки чернью и золотом. Это был философский трактат десятитысячелетней давности, найденный им в одной из вилл небольшого марсианского селения. Спендеру не хотелось отрываться от книги.
Он даже подумал сперва: «А стоит ли? Буду сидеть и читать, пока не придут и не убьют меня».
Утром, после того как он застрелил шесть человек, Спендер ощутил тупую опустошенность, потом его тошнило, и наконец им овладел странный покой. Но и это чувство было преходящим, потому что при виде пыли, которая обозначала путь преследователей, он снова ощутил ожесточение.
Он глотнул холодной воды из походной фляги. Потом встал, потянулся, зевнул и прислушался к упоительной тишине окружавшей его долины. Эх, если бы он и еще несколько людей оттуда, с Земли, могли вместе поселиться здесь и дожить свою жизнь без шума, без тревог…
Спендер взял в одну руку книгу, а в другую — пистолет. Рядом протекала быстрая речка с дном из белой гальки и большими камнями на берегах. Он разделся на камнях и вошел в воду ополоснуться. Он не спешил и, лишь поплескавшись вволю, оделся и снова взял пистолет.
Первые выстрелы раздались около трех часов дня. К этому времени Спендер ушел высоко в горы. Погоня шла следом. Миновали три горных марсианских городка. Над ними были разбросаны виллы марсиан.
Облюбовав себе зеленый лужок и быстрый ручей, древние марсианские семьи выложили из плиток бассейны, построили библиотеки, разбили сады с журчащими фонтанами. Спендер позволил себе поплавать с полчаса в наполненном дождевой водой бассейне, ожидая, когда приблизится погоня.
Покидая виллу, он услышал выстрелы. Позади него, в каких-нибудь пяти метрах, взорвался осколками кирпич. Спендер побежал, укрываясь за скальными выступами, обернулся и первым же выстрелом уложил наповал одного из преследователей.
Спендер знал, что его возьмут в кольцо и он окажется в ловушке. Окружат со всех сторон, и станут сходиться, и прикончат его. Странно даже, что они еще не пустили в ход гранаты. Капитану Уайлдеру достаточно слово сказать…
Девять-десять выстрелов прогремели один за другим, подбрасывая камни вокруг Спендера. Он методично отстреливался, иногда даже не отрываясь от серебряной книги, которую не выпускал из рук.
Капитан выскочил из-за укрытия под жаркие лучи солнца с винтовкой в руках. Спендер проводил его мушкой пистолета, но стрелять не стал. Вместо этого он выбрал другую цель и сбил пулей верхушку камня, за которым лежал Уайти. Оттуда донесся злобный крик.
Вдруг капитан выпрямился во весь рост, держа белый платок в поднятой руке. Он что-то сказал своим людям и, отложив винтовку в сторону, пошел вверх по склону. Спендер немного выждал, потом и он поднялся на ноги, с пистолетом наготове.
Капитан подошел и сел на горячий камень, избегая смотреть на Спендера.
Рука капитана потянулась к карману куртки. Спендер крепче сжал пистолет.
— Сигарету? — предложил капитан.
— Спасибо. — Спендер взял одну.
— Огоньку?
— Свои есть.
Они затянулись раз-другой в полной тишине.
— Жарко, — сказал капитан.
— Очень.
— Как вы тут, хорошо устроились?
— Отлично.
— И сколько думаете продержаться?
— Столько, сколько нужно, чтобы уложить дюжину человек.
— Почему вы не убили всех нас утром, когда была возможность? Вы вполне могли это сделать.
— Знаю. Духу не хватило. Когда тебе что-нибудь втемяшится в голову, начинаешь лгать самому себе. Говоришь, что все остальные неправы, а ты прав. Но едва я начал убивать этих людей, как сообразил, что они просто глупцы и зря я на них поднял руку. Поздно сообразил. Тогда я не мог заставить себя продолжать, вот и ушел сюда, чтобы еще раз солгать себе и разозлиться, восстановить нужное настроение.
— Восстановили?
— Не совсем. Но вполне достаточно.
Капитан разглядывал свою сигарету.
— Почему вы так поступили?
Спендер спокойно положил пистолет у своих ног.
— Потому что нам можно только мечтать обо всем том, что я увидел у марсиан. Они остановились там, где нам надо было остановиться сто лет назад. Я походил по их городам, узнал этот народ и был бы счастлив назвать их своими предками.
— Да, там у них чудесный город. — Капитан кивком головы указал на один из городов.
— Не только в этом дело. Конечно, их города хороши. Марсиане сумели слить искусство со своим бытом. У американцев искусство всегда особая статья, его место — в комнате чудаковатого сына наверху. Остальные принимают его, так сказать, воскресными дозами, кое-кто в смеси с религией. У марсиан есть все — и искусство, и религия, и другое…
— Думаете, они дознались, что к чему?
— Уверен.
— И по этой причине вы стали убивать людей.
— Когда я был маленьким, родители взяли меня с собой в Мехико-сити. Никогда не забуду, как отец там держался — крикливо, чванно. Что до матери, то ей тамошние люди не понравились тем, что они-де редко умываются и кожа у них темная. Сестра — та вообще избегала с ними разговаривать. Одному мне они пришлись по душе. И я отлично представляю себе, что, попади отец и мать на Марс, они повели бы себя здесь точно так же. Средний американец от всего необычного нос воротит. Если нет чикагского клейма, значит, никуда не годится. Подумать только! Боже мой, только подумать! А война! Вы ведь слышали речи в конгрессе перед нашим вылетом! Мол, если экспедиция удастся, на Марсе разместят три атомные лаборатории и склады атомных бомб. Выходит, Марсу конец; все эти чудеса погибнут. Ну, скажите, что вы почувствовали бы, если бы марсианин облевал полы Белого дома?
Капитан молчал и слушал.
Спендер продолжал:
Девять-десять выстрелов прогремели один за другим, подбрасывая камни вокруг Спендера. Он методично отстреливался, иногда даже не отрываясь от серебряной книги, которую не выпускал из рук.
Капитан выскочил из-за укрытия под жаркие лучи солнца с винтовкой в руках. Спендер проводил его мушкой пистолета, но стрелять не стал. Вместо этого он выбрал другую цель и сбил пулей верхушку камня, за которым лежал Уайти. Оттуда донесся злобный крик.
Вдруг капитан выпрямился во весь рост, держа белый платок в поднятой руке. Он что-то сказал своим людям и, отложив винтовку в сторону, пошел вверх по склону. Спендер немного выждал, потом и он поднялся на ноги, с пистолетом наготове.
Капитан подошел и сел на горячий камень, избегая смотреть на Спендера.
Рука капитана потянулась к карману куртки. Спендер крепче сжал пистолет.
— Сигарету? — предложил капитан.
— Спасибо. — Спендер взял одну.
— Огоньку?
— Свои есть.
Они затянулись раз-другой в полной тишине.
— Жарко, — сказал капитан.
— Очень.
— Как вы тут, хорошо устроились?
— Отлично.
— И сколько думаете продержаться?
— Столько, сколько нужно, чтобы уложить дюжину человек.
— Почему вы не убили всех нас утром, когда была возможность? Вы вполне могли это сделать.
— Знаю. Духу не хватило. Когда тебе что-нибудь втемяшится в голову, начинаешь лгать самому себе. Говоришь, что все остальные неправы, а ты прав. Но едва я начал убивать этих людей, как сообразил, что они просто глупцы и зря я на них поднял руку. Поздно сообразил. Тогда я не мог заставить себя продолжать, вот и ушел сюда, чтобы еще раз солгать себе и разозлиться, восстановить нужное настроение.
— Восстановили?
— Не совсем. Но вполне достаточно.
Капитан разглядывал свою сигарету.
— Почему вы так поступили?
Спендер спокойно положил пистолет у своих ног.
— Потому что нам можно только мечтать обо всем том, что я увидел у марсиан. Они остановились там, где нам надо было остановиться сто лет назад. Я походил по их городам, узнал этот народ и был бы счастлив назвать их своими предками.
— Да, там у них чудесный город. — Капитан кивком головы указал на один из городов.
— Не только в этом дело. Конечно, их города хороши. Марсиане сумели слить искусство со своим бытом. У американцев искусство всегда особая статья, его место — в комнате чудаковатого сына наверху. Остальные принимают его, так сказать, воскресными дозами, кое-кто в смеси с религией. У марсиан есть все — и искусство, и религия, и другое…
— Думаете, они дознались, что к чему?
— Уверен.
— И по этой причине вы стали убивать людей.
— Когда я был маленьким, родители взяли меня с собой в Мехико-сити. Никогда не забуду, как отец там держался — крикливо, чванно. Что до матери, то ей тамошние люди не понравились тем, что они-де редко умываются и кожа у них темная. Сестра — та вообще избегала с ними разговаривать. Одному мне они пришлись по душе. И я отлично представляю себе, что, попади отец и мать на Марс, они повели бы себя здесь точно так же. Средний американец от всего необычного нос воротит. Если нет чикагского клейма, значит, никуда не годится. Подумать только! Боже мой, только подумать! А война! Вы ведь слышали речи в конгрессе перед нашим вылетом! Мол, если экспедиция удастся, на Марсе разместят три атомные лаборатории и склады атомных бомб. Выходит, Марсу конец; все эти чудеса погибнут. Ну, скажите, что вы почувствовали бы, если бы марсианин облевал полы Белого дома?
Капитан молчал и слушал.
Спендер продолжал:
— Нельзя сказать, что вы сами сегодня вели себя нравственно, — заметил капитан.
— А что мне оставалось делать? Спорить с вами? Ведь я один — один против всей этой подлой, ненасытной шайки там, на Земле. Они же сразу примутся сбрасывать здесь свои мерзкие атомные бомбы, драться за базы для новых войн. Мало того, что одну планету разорили, надо и другим все изгадить? Тупые болтуны. Когда я попал сюда, мне показалось, что я избавлен не только от этой их так называемой культуры, но и от их этики, от их обычаев. Решил, что здесь их правила и устои меня больше не касаются. Оставалось только убить всех вас и зажить на свой лад.
— Но вышло иначе.
— Да. Когда я убил пятого там, у ракеты, я понял, что не сумел обновиться полностью, не стал настоящим марсианином. Не так-то легко оказалось избавиться от всего того, что к тебе прилипло на Земле. Но теперь мои колебания прошли. Я убью вас, всех до одного. Это задержит отправку следующей экспедиции самое малое лет на пять. Наша ракета единственная, других таких сейчас нет. На Земле будут ждать вестей от нас год, а то и два, и, так как они о нас ничего не узнают, им будет страшно снаряжать новую экспедицию. Ракету будут строить вдвое дольше, сделают лишнюю сотню опытных конструкций, чтобы застраховаться от новых неудач.
— Расчет верный.
— Если же вы возвратитесь с хорошими новостями, это ускорит массовое вторжение на Марс. А так, даст бог, доживу до шестидесяти и буду встречать каждую новую экспедицию. За один раз больше одной ракеты не пошлют — и не чаще чем раз в год, — и экипаж не может превышать двадцать человек. Я, конечно, подружусь с ними, расскажу, что наша ракета неожиданно взорвалась, — я взорву ее на этой же неделе, как только управлюсь с вами, — а потом всех их прикончу. На полвека-то удастся отстоять Марс; земляне, вероятно, скоро прекратят попытки. Помните, как люди остыли к строительству цеппелинов, которые все время загорались и падали?
— Вы все продумали, — признал капитан.
— Вот именно.
— Кроме одного: нас слишком много. Через час кольцо сомкнется. Через час вы будете мертвы.
— Я обнаружил подземные ходы и надежные убежища, которых вам ни за что не найти. Уйду туда, отсижусь несколько недель. Ваша бдительность ослабнет. Тогда я выйду и снова ухлопаю вас одного за другим.
Капитан кивнул.
— Расскажите мне про эту вашу здешнюю цивилизацию, — сказал он, показав рукой в сторону горных селений.
— Они умели жить с природой в согласии, в ладу. Не лезли из кожи вон, чтобы провести грань между человеком и животным. Эту ошибку допустили мы, когда появился Дарвин. Ведь что было у нас: сперва обрадовались, поспешили заключить в свои объятия и его, и Гексли, и Фрейда. Потом вдруг обнаружили, что Дарвин никак не согласуется с нашей религией. Во всяком случае, нам так показалось. Но ведь это глупо! Захотели немного потеснить Дарвина, Гексли, Фрейда. Они не очень-то поддавались. Тогда мы принялись сокрушать религию. И отлично преуспели. Лишились веры и стали ломать себе голову над смыслом жизни. Если искусство — всего лишь выражение неудовлетворенных страстей, если религия — самообман, то для чего мы живем? Вера на все находила ответ. Но с приходом Дарвина и Фрейда она вылетела в трубу. Как был род человеческий заблудшим, так и остался.
— Нельзя сказать, что вы сами сегодня вели себя нравственно, — заметил капитан.
— А что мне оставалось делать? Спорить с вами? Ведь я один — один против всей этой подлой, ненасытной шайки там, на Земле. Они же сразу примутся сбрасывать здесь свои мерзкие атомные бомбы, драться за базы для новых войн. Мало того, что одну планету разорили, надо и другим все изгадить? Тупые болтуны. Когда я попал сюда, мне показалось, что я избавлен не только от этой их так называемой культуры, но и от их этики, от их обычаев. Решил, что здесь их правила и устои меня больше не касаются. Оставалось только убить всех вас и зажить на свой лад.
— Но вышло иначе.
— Да. Когда я убил пятого там, у ракеты, я понял, что не сумел обновиться полностью, не стал настоящим марсианином. Не так-то легко оказалось избавиться от всего того, что к тебе прилипло на Земле. Но теперь мои колебания прошли. Я убью вас, всех до одного. Это задержит отправку следующей экспедиции самое малое лет на пять. Наша ракета единственная, других таких сейчас нет. На Земле будут ждать вестей от нас год, а то и два, и, так как они о нас ничего не узнают, им будет страшно снаряжать новую экспедицию. Ракету будут строить вдвое дольше, сделают лишнюю сотню опытных конструкций, чтобы застраховаться от новых неудач.
— Расчет верный.
— Если же вы возвратитесь с хорошими новостями, это ускорит массовое вторжение на Марс. А так, даст бог, доживу до шестидесяти и буду встречать каждую новую экспедицию. За один раз больше одной ракеты не пошлют — и не чаще чем раз в год, — и экипаж не может превышать двадцать человек. Я, конечно, подружусь с ними, расскажу, что наша ракета неожиданно взорвалась, — я взорву ее на этой же неделе, как только управлюсь с вами, — а потом всех их прикончу. На полвека-то удастся отстоять Марс; земляне, вероятно, скоро прекратят попытки. Помните, как люди остыли к строительству цеппелинов, которые все время загорались и падали?
— Вы все продумали, — признал капитан.
— Вот именно.
— Кроме одного: нас слишком много. Через час кольцо сомкнется. Через час вы будете мертвы.
— Я обнаружил подземные ходы и надежные убежища, которых вам ни за что не найти. Уйду туда, отсижусь несколько недель. Ваша бдительность ослабнет. Тогда я выйду и снова ухлопаю вас одного за другим.
Капитан кивнул.
— Расскажите мне про эту вашу здешнюю цивилизацию, — сказал он, показав рукой в сторону горных селений.
— Они умели жить с природой в согласии, в ладу. Не лезли из кожи вон, чтобы провести грань между человеком и животным. Эту ошибку допустили мы, когда появился Дарвин. Ведь что было у нас: сперва обрадовались, поспешили заключить в свои объятия и его, и Гексли, и Фрейда. Потом вдруг обнаружили, что Дарвин никак не согласуется с нашей религией. Во всяком случае, нам так показалось. Но ведь это глупо! Захотели немного потеснить Дарвина, Гексли, Фрейда. Они не очень-то поддавались. Тогда мы принялись сокрушать религию. И отлично преуспели. Лишились веры и стали ломать себе голову над смыслом жизни. Если искусство — всего лишь выражение неудовлетворенных страстей, если религия — самообман, то для чего мы живем? Вера на все находила ответ. Но с приходом Дарвина и Фрейда она вылетела в трубу. Как был род человеческий заблудшим, так и остался.
— Да. Они сумели сочетать науку и веру так, что те не отрицали одна другую, а взаимно помогали, обогащали.
— Прямо идеал какой-то!
— Так оно и было. Мне очень хочется показать вам, как это выглядело на деле.
— Мои люди ждут меня.
— Каких-нибудь полчаса. Предупредите их, сэр.
Капитан помедлил, потом встал и крикнул своему отряду, который залег внизу, чтобы они не двигались с места.
Спендер повел его в небольшое марсианское селение, сооруженное из безупречного прохладного мрамора. Они увидели большие фризы с изображением великолепных животных, каких-то кошек с белыми лапами и желтые круги — символы солнца, увидели изваяния животных, напоминавших быков, скульптуры мужчин, женщин и огромных собак с благородными мордами.
— Вот вам ответ, капитан.
— Не вижу.
— Марсиане узнали тайну жизни у животных. Животное не допытывается, в чем смысл бытия. Оно живет. Живет ради жизни. Для него ответ заключен в самой жизни, в ней и радость, и наслаждение. Вы посмотрите на эти скульптуры: всюду символические изображения животных.
— Язычество какое-то.
— Напротив, это символы бога, символы жизни. На Марсе тоже была пора, когда в Человеке стало слишком много от человека и слишком мало от животного. Но люди Марса поняли: чтобы выжить, надо перестать допытываться, в чем смысл жизни. Жизнь сама по себе есть ответ. Цель жизни в том, чтобы воспроизводить жизнь и возможно лучше ее устроить. Марсиане заметили, что вопрос: «Для чего жить?» — родился у них в разгар периода воин и бедствий, когда ответа не могло быть. Но стоило цивилизации обрести равновесие, устойчивость, стоило прекратиться войнам, как этот вопрос опять оказался бессмысленным, уже совсем по-другому. Когда жизнь хороша, спорить о ней незачем.
— Послушать вас, так марсиане были довольно наивными.
— Только там, где наивность себя оправдывала. Они излечились от стремления все разрушать, все развенчивать. Они слили вместе религию, искусство и науку: ведь наука в конечном счете — исследование чуда, коего мы не в силах объяснить, а искусство — толкование этого чуда. Они не позволяли науке сокрушать эстетическое, прекрасное. Это же все вопрос меры. Землянин рассуждает: «В этой картине цвета как такового нет. Наука может доказать, что цвет — это всего-навсего определенное расположение частиц вещества, особым образом отражающих свет. Следовательно, цвет не является действительной принадлежностью предметов, которые попали в поле моего зрения». Марсианин, как более умный, сказал бы так: «Это чудесная картина. Она создана рукой и мозгом вдохновенного человека. Ее идея и краски даны жизнью. Отличная вещь».
Они помолчали. Сидя в лучах предвечернего солнца, капитан с любопытством разглядывал безмолвный мраморный городок.
— Я бы с удовольствием здесь поселился, — сказал он.
— Вам стоит только захотеть.
— Вы предлагаете это мне?
— Кто из ваших людей способен по-настоящему понять все это? Они же профессиональные циники, их уже не исправишь. Ну зачем вам возвращаться на Землю вместе с ними? Чтобы тянуться за Джонсами? Чтобы купить себе точно такой вертолет, как у Смита? Чтобы слушать музыку не душой, а бумажником? Здесь, в одном дворике, я нашел запись марсианской музыки, ей не менее пятидесяти тысяч лет. Она все еще звучит. Такой музыки вы в жизни больше нигде не услышите. Оставайтесь и будете слушать. Здесь есть книги. Я уже довольно свободно их читаю. И вы могли бы.
— Это все довольно заманчиво.
— И все же вы не останетесь?
— Нет. Но за предложение все-таки спасибо.
— И вы, разумеется, не согласны оставить меня в покое. Мне придется всех вас убить.
— Вы оптимист.
— Мне есть за что сражаться и ради чего жить, поэтому я лучше вас преуспею в убийстве. У меня теперь появилась, так сказать, своя религия: я заново учусь дышать, лежать на солнышке, загорать, впитывая солнечные лучи, слушать музыку и читать книги. А что мне может предложить ваша цивилизация?
Капитан переступил с ноги на ногу и покачал головой.
— Мне очень жаль, что так получается. Обидно за все это…
— Мне тоже. А теперь, пожалуй, пора отвести вас обратно, чтобы вы могли начать вашу атаку.
— Пожалуй.
— Да. Они сумели сочетать науку и веру так, что те не отрицали одна другую, а взаимно помогали, обогащали.
— Прямо идеал какой-то!
— Так оно и было. Мне очень хочется показать вам, как это выглядело на деле.
— Мои люди ждут меня.
— Каких-нибудь полчаса. Предупредите их, сэр.
Капитан помедлил, потом встал и крикнул своему отряду, который залег внизу, чтобы они не двигались с места.
Спендер повел его в небольшое марсианское селение, сооруженное из безупречного прохладного мрамора. Они увидели большие фризы с изображением великолепных животных, каких-то кошек с белыми лапами и желтые круги — символы солнца, увидели изваяния животных, напоминавших быков, скульптуры мужчин, женщин и огромных собак с благородными мордами.
— Вот вам ответ, капитан.
— Не вижу.
— Марсиане узнали тайну жизни у животных. Животное не допытывается, в чем смысл бытия. Оно живет. Живет ради жизни. Для него ответ заключен в самой жизни, в ней и радость, и наслаждение. Вы посмотрите на эти скульптуры: всюду символические изображения животных.
— Язычество какое-то.
— Напротив, это символы бога, символы жизни. На Марсе тоже была пора, когда в Человеке стало слишком много от человека и слишком мало от животного. Но люди Марса поняли: чтобы выжить, надо перестать допытываться, в чем смысл жизни. Жизнь сама по себе есть ответ. Цель жизни в том, чтобы воспроизводить жизнь и возможно лучше ее устроить. Марсиане заметили, что вопрос: «Для чего жить?» — родился у них в разгар периода воин и бедствий, когда ответа не могло быть. Но стоило цивилизации обрести равновесие, устойчивость, стоило прекратиться войнам, как этот вопрос опять оказался бессмысленным, уже совсем по-другому. Когда жизнь хороша, спорить о ней незачем.
— Послушать вас, так марсиане были довольно наивными.
— Только там, где наивность себя оправдывала. Они излечились от стремления все разрушать, все развенчивать. Они слили вместе религию, искусство и науку: ведь наука в конечном счете — исследование чуда, коего мы не в силах объяснить, а искусство — толкование этого чуда. Они не позволяли науке сокрушать эстетическое, прекрасное. Это же все вопрос меры. Землянин рассуждает: «В этой картине цвета как такового нет. Наука может доказать, что цвет — это всего-навсего определенное расположение частиц вещества, особым образом отражающих свет. Следовательно, цвет не является действительной принадлежностью предметов, которые попали в поле моего зрения». Марсианин, как более умный, сказал бы так: «Это чудесная картина. Она создана рукой и мозгом вдохновенного человека. Ее идея и краски даны жизнью. Отличная вещь».
Они помолчали. Сидя в лучах предвечернего солнца, капитан с любопытством разглядывал безмолвный мраморный городок.
— Я бы с удовольствием здесь поселился, — сказал он.
— Вам стоит только захотеть.
— Вы предлагаете это мне?
— Кто из ваших людей способен по-настоящему понять все это? Они же профессиональные циники, их уже не исправишь. Ну зачем вам возвращаться на Землю вместе с ними? Чтобы тянуться за Джонсами? Чтобы купить себе точно такой вертолет, как у Смита? Чтобы слушать музыку не душой, а бумажником? Здесь, в одном дворике, я нашел запись марсианской музыки, ей не менее пятидесяти тысяч лет. Она все еще звучит. Такой музыки вы в жизни больше нигде не услышите. Оставайтесь и будете слушать. Здесь есть книги. Я уже довольно свободно их читаю. И вы могли бы.
— Это все довольно заманчиво.
— И все же вы не останетесь?
— Нет. Но за предложение все-таки спасибо.
— И вы, разумеется, не согласны оставить меня в покое. Мне придется всех вас убить.
— Вы оптимист.
— Мне есть за что сражаться и ради чего жить, поэтому я лучше вас преуспею в убийстве. У меня теперь появилась, так сказать, своя религия: я заново учусь дышать, лежать на солнышке, загорать, впитывая солнечные лучи, слушать музыку и читать книги. А что мне может предложить ваша цивилизация?
Капитан переступил с ноги на ногу и покачал головой.
— Мне очень жаль, что так получается. Обидно за все это…
— Мне тоже. А теперь, пожалуй, пора отвести вас обратно, чтобы вы могли начать вашу атаку.
— Пожалуй.
"Как противно быть ловким и расторопным, — думал капитан, — когда в глубине души не чувствуешь себя ловким и не хочешь им быть. Подбираться тайком, замышлять всякие хитрости и гордиться своим коварством. Ненавижу это чувство правоты, когда в глубине души я не уверен, что прав. Кто мы, если разобраться? Большинство?.. Чем не ответ: ведь большинство всегда непогрешимо, разве нет? Всегда — и не может даже на миг ошибиться, разве не так? Не ошибается даже раз в десять миллионов лет?.."
Он думал: «Что представляет собой это большинство и кто в него входит? О чем они думают, и почему они стали именно такими, и неужели никогда не переменятся, и еще — какого черта меня занесло в это треклятое большинство? Мне не по себе. В чем тут причина: клаустрофобия, боязнь толпы или просто здравый смысл? И может ли один человек быть правым, когда весь мир уверен в своей правоте? Не будем об этом думать. Будем ползать на брюхе, подкрадываться, спускать курок! Вот так! И так!»
Его люди перебегали, падали, снова перебегали, приседая в тени, и скалили зубы, хватая ртом воздух, потому что атмосфера была разреженная, бегать в ней тяжело; атмосфера была разреженная, и им приходилось по пяти минут отсиживаться, тяжело дыша, — и черные искры перед глазами, — глотать бедный кислородом воздух, которым никак не насытишься, наконец, стиснув зубы, опять вставать на ноги и поднимать винтовки, чтобы раздирать этот разреженный летний воздух огнем и громом.
Спендер лежал там, где его оставил капитан, изредка стреляя по преследователям.
— Размажу по камням его проклятые мозги! — завопил Паркхилл и побежал вверх по склону.
Капитан прицелился в Сэма Паркхилла. И отложил пистолет, с ужасом глядя на него.
— Что вы затеяли? — спросил он обессилевшую руку и пистолет.
Он едва не выстрелил в спину Паркхиллу.
— Господи, что это я!
Он увидел, как Паркхилл закончил перебежку и упал, найдя укрытие.
Вокруг Спендера медленно стягивалась редкая движущаяся цепочка людей. Он лежал на вершине, за двумя большими камнями, устало кривя рот от нехватки воздуха, под мышками темными пятнами проступил пот. Капитан отчетливо видел эти камни. Их разделял просвет сантиметров около десяти, оставляя незащищенной грудь Спендера.
"Как противно быть ловким и расторопным, — думал капитан, — когда в глубине души не чувствуешь себя ловким и не хочешь им быть. Подбираться тайком, замышлять всякие хитрости и гордиться своим коварством. Ненавижу это чувство правоты, когда в глубине души я не уверен, что прав. Кто мы, если разобраться? Большинство?.. Чем не ответ: ведь большинство всегда непогрешимо, разве нет? Всегда — и не может даже на миг ошибиться, разве не так? Не ошибается даже раз в десять миллионов лет?.."
Он думал: «Что представляет собой это большинство и кто в него входит? О чем они думают, и почему они стали именно такими, и неужели никогда не переменятся, и еще — какого черта меня занесло в это треклятое большинство? Мне не по себе. В чем тут причина: клаустрофобия, боязнь толпы или просто здравый смысл? И может ли один человек быть правым, когда весь мир уверен в своей правоте? Не будем об этом думать. Будем ползать на брюхе, подкрадываться, спускать курок! Вот так! И так!»
Его люди перебегали, падали, снова перебегали, приседая в тени, и скалили зубы, хватая ртом воздух, потому что атмосфера была разреженная, бегать в ней тяжело; атмосфера была разреженная, и им приходилось по пяти минут отсиживаться, тяжело дыша, — и черные искры перед глазами, — глотать бедный кислородом воздух, которым никак не насытишься, наконец, стиснув зубы, опять вставать на ноги и поднимать винтовки, чтобы раздирать этот разреженный летний воздух огнем и громом.
Спендер лежал там, где его оставил капитан, изредка стреляя по преследователям.
— Размажу по камням его проклятые мозги! — завопил Паркхилл и побежал вверх по склону.
Капитан прицелился в Сэма Паркхилла. И отложил пистолет, с ужасом глядя на него.
— Что вы затеяли? — спросил он обессилевшую руку и пистолет.
Он едва не выстрелил в спину Паркхиллу.
— Господи, что это я!
Он увидел, как Паркхилл закончил перебежку и упал, найдя укрытие.
Вокруг Спендера медленно стягивалась редкая движущаяся цепочка людей. Он лежал на вершине, за двумя большими камнями, устало кривя рот от нехватки воздуха, под мышками темными пятнами проступил пот. Капитан отчетливо видел эти камни. Их разделял просвет сантиметров около десяти, оставляя незащищенной грудь Спендера.
Капитан Уайлдер ждал. «Ну, Спендер, давай же, — думал он. — Уходи, как у тебя было задумано. Через несколько минут будет поздно. Уходи, потом опять выйдешь. Ну! Ты же сказал, что уйдешь. Уйди в эти катакомбы, которые ты разыскал, заляг там и живи месяц, год, много лет, читай свои замечательные книги, купайся в своих храмовых бассейнах. Давай же, человече, ну, пока не поздно».
Спендер не двигался с места.
«Да что это с ним?» — спросил себя капитан.
Он взял свой пистолет. Понаблюдал, как перебегают от укрытия к укрытию его люди. Поглядел на башни маленького чистенького марсианского селения — будто резные шахматные фигурки с освещенными солнцем гранями. Перевел взгляд на камни и промежуток между ними, открывающий грудь Спендера.
Паркхилл ринулся вперед, рыча от ярости.
— Нет, Паркхилл, — сказал капитан. — Я не могу допустить, чтобы это сделали вы. Или кто-либо еще. Нет, никто из вас. Я сам.
Он поднял пистолет и прицелился.
«Будет ли у меня после этого чистая совесть? — спросил себя капитан. — Верно ли я поступаю, что беру это на себя? Да, верно. Я знаю, что и почему делаю, и все правильно, ведь я уверен, что это надлежит сделать мне. Я надеюсь и верю, что всей жизнью оправдаю свое решение».
Он кивнул головой Спендеру.
— Уходи! — крикнул он шепотом, которого никто, кроме него, не слышал. — Даю тебе еще тридцать секунд. Тридцать секунд!
Часы тикали на его запястье. Капитан смотрел, как бежит стрелка. Его люди бегом продвигались вперед. Спендер не двигался с места. Часы тикали очень долго и очень громко, прямо в ухо капитану.
— Уходи, Спендер, уходи живей!
Тридцать секунд истекли.
Пистолет был наведен на цель. Капитан глубоко вздохнул.
— Спендер, — сказал он, выдыхая.
Он спустил курок.
Крохотное облачко каменной пыли заклубилось в солнечных лучах — вот и все, что произошло. Раскатилось и заглохло эхо выстрела.
— Он мертв.
Они не поверили. С их позиций не было видно просвета между камнями. Они увидели, как капитан один взбегает вверх по склону, и решили, что он либо очень храбрый, либо сумасшедший.
Прошло несколько минут, прежде чем они последовали за ним.
Они собрались вокруг тела, и кто-то спросил:
— В грудь?
Капитан опустил взгляд.
— В грудь, — сказал он. Он заметил, как изменился цвет камней под телом Спендера. — Хотел бы я знать, почему он ждал. Хотел бы я знать, почему он не ушел, как задумал. Хотел бы я знать, почему он дожидался, пока его убьют.
— Кто ведает? — произнес кто-то.
А Спендер лежал перед ними, и одна его рука сжимала пистолет, а другая — серебряную книгу, которая ярко блестела на солнце.
«Может, все это из-за меня? — думал капитан. — Потому что я отказался присоединиться к нему? Может быть, у Спендера не поднялась рука убить меня? Возможно, я чем-нибудь отличаюсь от них? Может, в этом все дело? Он, наверно, считал, что на меня можно положиться. Или есть другой ответ?»
Другого ответа не было. Он присел на корточки возле безжизненного тела.
«Я должен оправдать это своей жизнью, — думал он, — Теперь я не могу его обмануть. Если он считал, что я в чем-то схож с ним и потому не убил меня, то я обязан многое свершить! Да-да, конечно, так и есть. Я — тот же Спендер, он остался жить во мне, только я думаю, прежде чем стрелять. Я вообще не стреляю, не убиваю. Я направляю людей. Он потому не мог меня убить, что видел во мне самого себя, только в иных условиях».
Капитан почувствовал, как солнце припекает его затылок. Он услышал собственный голос:
— Эх, если бы он поговорил со мной, прежде чем стрелять, — мы бы что-нибудь придумали.
— Что придумали? — буркнул Паркхилл. — Что общего у нас с такими, как он?
Равнина, скалы, голубое небо дышало зноем, от которого звенело в ушах.
— Пожалуй, вы правы, — сказал капитан. — Мы никогда не смогли бы поладить. Спендер и я — еще куда ни шло. Но Спендер и вы и вам подобные — нет, никогда. Для него лучше так, как вышло. Дайте-ка глотнуть из фляги.
Предложение схоронить Спендера в пустом саркофаге исходило от капитана. Саркофаг был на древнем марсианском кладбище, которое они обнаружили. И Спендера положили в серебряную гробницу, скрестив ему руки на груди, и туда же положили свечи и вина, изготовленные десять тысяч лет назад. И последним, что они увидели, закрывая саркофаг, было его умиротворенное лицо.
Они постояли в древнем склепе.
— Думаю, вам полезно будет время от времени вспоминать Спендера, — сказал капитан.
Они вышли из склепа и плотно затворили мраморную дверь.
На следующий день Паркхилл затеял стрельбу по мишеням в одном из мертвых городов — он стрелял по хрустальным окнам и сшибал макушки изящных башен. Капитан поймал Паркхилла и выбил ему зубы.
— Он мертв.
Они не поверили. С их позиций не было видно просвета между камнями. Они увидели, как капитан один взбегает вверх по склону, и решили, что он либо очень храбрый, либо сумасшедший.
Прошло несколько минут, прежде чем они последовали за ним.
Они собрались вокруг тела, и кто-то спросил:
— В грудь?
Капитан опустил взгляд.
— В грудь, — сказал он. Он заметил, как изменился цвет камней под телом Спендера. — Хотел бы я знать, почему он ждал. Хотел бы я знать, почему он не ушел, как задумал. Хотел бы я знать, почему он дожидался, пока его убьют.
— Кто ведает? — произнес кто-то.
А Спендер лежал перед ними, и одна его рука сжимала пистолет, а другая — серебряную книгу, которая ярко блестела на солнце.
«Может, все это из-за меня? — думал капитан. — Потому что я отказался присоединиться к нему? Может быть, у Спендера не поднялась рука убить меня? Возможно, я чем-нибудь отличаюсь от них? Может, в этом все дело? Он, наверно, считал, что на меня можно положиться. Или есть другой ответ?»
Другого ответа не было. Он присел на корточки возле безжизненного тела.
«Я должен оправдать это своей жизнью, — думал он, — Теперь я не могу его обмануть. Если он считал, что я в чем-то схож с ним и потому не убил меня, то я обязан многое свершить! Да-да, конечно, так и есть. Я — тот же Спендер, он остался жить во мне, только я думаю, прежде чем стрелять. Я вообще не стреляю, не убиваю. Я направляю людей. Он потому не мог меня убить, что видел во мне самого себя, только в иных условиях».
Капитан почувствовал, как солнце припекает его затылок. Он услышал собственный голос:
— Эх, если бы он поговорил со мной, прежде чем стрелять, — мы бы что-нибудь придумали.
— Что придумали? — буркнул Паркхилл. — Что общего у нас с такими, как он?
Равнина, скалы, голубое небо дышало зноем, от которого звенело в ушах.
— Пожалуй, вы правы, — сказал капитан. — Мы никогда не смогли бы поладить. Спендер и я — еще куда ни шло. Но Спендер и вы и вам подобные — нет, никогда. Для него лучше так, как вышло. Дайте-ка глотнуть из фляги.
Предложение схоронить Спендера в пустом саркофаге исходило от капитана. Саркофаг был на древнем марсианском кладбище, которое они обнаружили. И Спендера положили в серебряную гробницу, скрестив ему руки на груди, и туда же положили свечи и вина, изготовленные десять тысяч лет назад. И последним, что они увидели, закрывая саркофаг, было его умиротворенное лицо.
Они постояли в древнем склепе.
— Думаю, вам полезно будет время от времени вспоминать Спендера, — сказал капитан.
Они вышли из склепа и плотно затворили мраморную дверь.
На следующий день Паркхилл затеял стрельбу по мишеням в одном из мертвых городов — он стрелял по хрустальным окнам и сшибал макушки изящных башен. Капитан поймал Паркхилла и выбил ему зубы.
Поселенцы
Земляне прилетали на Марс.
Прилетали, потому что чего-то боялись и ничего не боялись, потому что были счастливы и несчастливы, чувствовали себя паломниками и не чувствовали себя паломниками. У каждого была своя причина. Оставляли опостылевших жен, или опостылевшую работу, или опостылевшие города; прилетали, чтобы найти что-то, или избавиться от чего-то, или добыть что-то, откопать что-то или зарыть что-то, или предать что-то забвению. Прилетали с большими ожиданиями, с маленькими ожиданиями, совсем без ожиданий. Но во множестве городов на четырехцветных плакатах повелительно указывал начальственный палец: ДЛЯ ТЕБЯ ЕСТЬ РАБОТА НА НЕБЕ — ПОБЫВАЙ НА МАРСЕ! И люди собирались в путь; правда, сперва их было немного, какие-нибудь десятки — большинству еще до того, как ракета выстреливала в космос, становилось худо. Болезнь называлась Одиночество. Потому что стоило только представить себе, как твой родной город уменьшается там, внизу — сначала он с кулак размером, затем — с лимон, с булавочную головку, наконец, вовсе пропал в пламенной реактивной струе — и у тебя такое чувство, словно ты никогда не рождался на свет, и города никакого нет, и ты нигде, лишь космос кругом, ничего знакомого, только чужие люди. А когда твой штат — Иллинойс или Айова, Миссури или Монтана — тонул в пелене облаков, да что там, все Соединенные Штаты сжимались в мглистый островок, вся планета Земля превращалась в грязновато-серый мячик, летящий куда-то прочь, — тогда уж ты оказывался совсем один, одинокий скиталец в просторах космоса, и невозможно представить себе, что тебя ждет.
Ничего удивительного, что первых было совсем немного. Число переселенцев росло пропорционально количеству землян, которые уже перебрались на Марс: одному страшно, а на людях — не так. Но первым, Одиноким, приходилось полагаться только на себя…
Зеленое утро
Когда солнце зашло, он присел возле тропы и приготовил нехитрый ужин; потом, отправляя в рот кусок за куском и задумчиво жуя, слушал, как потрескивает огонь. Миновал еще день, похожий на тридцать других: с утра пораньше вырыть много аккуратных ямок, потом посадить в них семена, натаскать воды из прозрачных каналов. Сейчас, скованный свинцовой усталостью, он лежал, глядя на небо, в котором один оттенок темноты сменялся другим.
Его звали Бенджамен Дрисколл, ему был тридцать один год. Он хотел одного — чтобы весь Марс зазеленел, покрылся высокими деревьями с густой листвой, рождающей воздух, больше воздуха; пусть растут во все времена года, освежают города в душное лето, не пускают зимние ветры. Дерево, чего-чего только оно не может… Оно дарит краски природе, простирает тень, усыпает землю плодами. Или становится царством детских игр — целый поднебесный мир, где можно лазить, играть, висеть на руках… Великолепное сооружение, несущее пищу и радость, — вот что такое дерево. Но прежде всего деревья — это источник живительного прохладного воздуха для легких и ласкового шелеста, который нежит твои слух и убаюкивает тебя ночью, когда ты лежишь в снежно-белой постели.
Он лежал и слушал, как темная почва собирается с силами, ожидая солнца, ожидая дождей, которых все нет и нет… Приложив ухо к земле, он слышал поступь грядущих годов и видел — видел, как посаженные сегодня семена прорываются зелеными побегами и тянутся ввысь, к небу, раскидывая ветку за веткой, и весь Марс превращается в солнечный лес, светлый сад.
Рано утром, едва маленькое бледное солнце всплывет над складками холмов, он встанет, живо проглотит завтрак с дымком, затопчет головешки, нагрузит на себя рюкзак — и снова выбирать места, копать, сажать семена или саженцы, осторожно уминать землю, поливать и шагать дальше, насвистывая и поглядывая в ясное небо, а оно к полудню все ярче и жарче…
— Тебе нужен воздух, — сказал он своему костру. Костер — живой румяный товарищ, который шутливо кусает тебе пальцы, а в прохладные ночи, теплый, дремлет рядом, щуря сонные розовые глаза… — Нам всем нужен воздух. Здесь, на Марсе, воздух разреженный. Чуть что, и устал. Все равно, что в Андах, в Южной Америке. Вдохнул и не чувствуешь. Никак не надышишься.
Он тронул грудную клетку. Как она расширилась за тридцать дней! Да, здесь им нужно развивать легкие, чтобы вдохнуть побольше воздуха. Или сажать побольше деревьев.
— Понял, зачем я здесь? — сказал он. Огонь стрельнул. — В школе нам рассказывали про Джонни Яблочное Семечко. Как он шел по Америке и сажал яблони. А мое дело поважнее. Я сажаю дубы, вязы, и клены, и всякие другие деревья — осины, каштаны и кедры. Я делаю не просто плоды для желудка, а воздух для легких. Только подумать: когда все эти деревья наконец вырастут, сколько от них будет кислорода!
Вспомнился день прилета на Марс. Подобно тысяче других, он всматривался тогда в тихое марсианское утро и думал: «Как-то я здесь освоюсь? Что буду делать? Найдется ли работа по мне?»
И потерял сознание.
Кто-то сунул ему под нос пузырек с нашатырным спиртом, он закашлялся и пришел в себя.
— Ничего, оправитесь, — сказал врач.
— А что со мной было?
— Здесь очень разреженная атмосфера. Некоторые ее не переносят. Вам, вероятно, придется возвратиться на Землю.
— Нет! — Он сел, но в тот же миг в глазах у него потемнело, и Марс сделал под ним не меньше двух оборотов. Ноздри расширились, он принудил легкие жадно пить ничто. — Я свыкнусь. Я останусь здесь!
Его оставили в покое: он лежал, дыша, словно рыба на песке, и думал: «Воздух, воздух, воздух. Они хотят меня отправить отсюда из-за воздуха». И он повернул голову, чтобы поглядеть на холмы и равнины Марса. Присмотрелся и первое, что увидел: куда ни глянь, сколько ни смотри — ни одного дерева, ни единого. Этот край словно сам себя покарал, черный перегной стлался во все стороны, а на нем — ничего, ни одной травинки. «Воздух, — думал он, шумно вдыхая бесцветное нечто. — Воздух, воздух…» И на верхушках холмов, на тенистых склонах, даже возле ручья — тоже ни деревца, ни травинки.
Зеленое утро
Когда солнце зашло, он присел возле тропы и приготовил нехитрый ужин; потом, отправляя в рот кусок за куском и задумчиво жуя, слушал, как потрескивает огонь. Миновал еще день, похожий на тридцать других: с утра пораньше вырыть много аккуратных ямок, потом посадить в них семена, натаскать воды из прозрачных каналов. Сейчас, скованный свинцовой усталостью, он лежал, глядя на небо, в котором один оттенок темноты сменялся другим.
Его звали Бенджамен Дрисколл, ему был тридцать один год. Он хотел одного — чтобы весь Марс зазеленел, покрылся высокими деревьями с густой листвой, рождающей воздух, больше воздуха; пусть растут во все времена года, освежают города в душное лето, не пускают зимние ветры. Дерево, чего-чего только оно не может… Оно дарит краски природе, простирает тень, усыпает землю плодами. Или становится царством детских игр — целый поднебесный мир, где можно лазить, играть, висеть на руках… Великолепное сооружение, несущее пищу и радость, — вот что такое дерево. Но прежде всего деревья — это источник живительного прохладного воздуха для легких и ласкового шелеста, который нежит твои слух и убаюкивает тебя ночью, когда ты лежишь в снежно-белой постели.
Он лежал и слушал, как темная почва собирается с силами, ожидая солнца, ожидая дождей, которых все нет и нет… Приложив ухо к земле, он слышал поступь грядущих годов и видел — видел, как посаженные сегодня семена прорываются зелеными побегами и тянутся ввысь, к небу, раскидывая ветку за веткой, и весь Марс превращается в солнечный лес, светлый сад.
Рано утром, едва маленькое бледное солнце всплывет над складками холмов, он встанет, живо проглотит завтрак с дымком, затопчет головешки, нагрузит на себя рюкзак — и снова выбирать места, копать, сажать семена или саженцы, осторожно уминать землю, поливать и шагать дальше, насвистывая и поглядывая в ясное небо, а оно к полудню все ярче и жарче…
— Тебе нужен воздух, — сказал он своему костру. Костер — живой румяный товарищ, который шутливо кусает тебе пальцы, а в прохладные ночи, теплый, дремлет рядом, щуря сонные розовые глаза… — Нам всем нужен воздух. Здесь, на Марсе, воздух разреженный. Чуть что, и устал. Все равно, что в Андах, в Южной Америке. Вдохнул и не чувствуешь. Никак не надышишься.
Он тронул грудную клетку. Как она расширилась за тридцать дней! Да, здесь им нужно развивать легкие, чтобы вдохнуть побольше воздуха. Или сажать побольше деревьев.
— Понял, зачем я здесь? — сказал он. Огонь стрельнул. — В школе нам рассказывали про Джонни Яблочное Семечко. Как он шел по Америке и сажал яблони. А мое дело поважнее. Я сажаю дубы, вязы, и клены, и всякие другие деревья — осины, каштаны и кедры. Я делаю не просто плоды для желудка, а воздух для легких. Только подумать: когда все эти деревья наконец вырастут, сколько от них будет кислорода!
Вспомнился день прилета на Марс. Подобно тысяче других, он всматривался тогда в тихое марсианское утро и думал: «Как-то я здесь освоюсь? Что буду делать? Найдется ли работа по мне?»
И потерял сознание.
Кто-то сунул ему под нос пузырек с нашатырным спиртом, он закашлялся и пришел в себя.
— Ничего, оправитесь, — сказал врач.
— А что со мной было?
— Здесь очень разреженная атмосфера. Некоторые ее не переносят. Вам, вероятно, придется возвратиться на Землю.
— Нет! — Он сел, но в тот же миг в глазах у него потемнело, и Марс сделал под ним не меньше двух оборотов. Ноздри расширились, он принудил легкие жадно пить ничто. — Я свыкнусь. Я останусь здесь!
Его оставили в покое: он лежал, дыша, словно рыба на песке, и думал: «Воздух, воздух, воздух. Они хотят меня отправить отсюда из-за воздуха». И он повернул голову, чтобы поглядеть на холмы и равнины Марса. Присмотрелся и первое, что увидел: куда ни глянь, сколько ни смотри — ни одного дерева, ни единого. Этот край словно сам себя покарал, черный перегной стлался во все стороны, а на нем — ничего, ни одной травинки. «Воздух, — думал он, шумно вдыхая бесцветное нечто. — Воздух, воздух…» И на верхушках холмов, на тенистых склонах, даже возле ручья — тоже ни деревца, ни травинки.
— Я должен встать! — крикнул он. — Мне надо видеть Координатора!
Полдня он и Координатор проговорили о том, что растет в зеленом уборе. Пройдут месяцы, если не годы, прежде чем можно будет начать планомерные посадки. Пока что продовольствие доставляют с Земли замороженным, в летающих сосульках; лишь несколько любителей вырастили сады гидропонным способом.
— Так что пока, — сказал Координатор, — действуйте сами. Добудем семян сколько можно, кое-какое снаряжение. Сейчас в ракетах мало места. Боюсь, поскольку первые поселения связаны с рудниками, ваш проект зеленых посадок не будет пользоваться успехом…
— Но вы мне разрешите?
Ему разрешили. Выдали мотоцикл, он наполнил багажник семенами и саженцами, выезжал в пустынные долины, оставлял машину и шел пешком, работая.
Это началось тридцать дней назад, и с той поры он ни разу не оглянулся. Оглянуться — значит пасть духом: стояла необычайно сухая погода, и вряд ли хоть одно семечко проросло. Может быть, битва проиграна? Четыре недели труда — впустую? И он смотрел только вперед, шел вперед по широкой солнечной долине, все дальше от Первого Города, и ждал — ждал, когда же пойдет дождь.
…Он натянул одеяло на плечи; над сухими холмами пухли тучи. Марс непостоянен, как время. Пропеченные солнцем холмы прихватывал ночной заморозок, а он думал о богатой черной почве — такой черной и блестящей, что она чуть ли не шевелилась в горсти, о жирной почве, из которой могли бы расти могучие, исполинские стебли фасоли, и спелые стручки роняли бы огромные, невообразимые зерна, сотрясающие землю.
Сонный костер подернулся пеплом. Воздух дрогнул: вдали прокатилась телега. Гром. Неожиданный запах влаги. «Сегодня ночью, — подумал он и вытянул руку проверить, идет ли дождь. — Сегодня ночью».
Что-то тронуло его бровь, и он проснулся.
По носу на губу скатилась влага. Вторая капля ударила в глаз и на миг его затуманила. Третья разбилась о щеку.
Дождь.
Прохладный, ласковый, легкий, он моросил с высокого неба — волшебный эликсир, пахнущий чарами, звездами, воздухом; он нес с собой черную, как перец, пыль, оставляя на языке то же ощущение, что выдержанный старый херес.
Дождь.
Он сел. Одеяло съехало, и по голубой рубашке забегали темные пятна; капли становились крупнее и крупнее. Костер выглядел так, будто по нему, топча огонь, плясал невидимый зверь; и вот остался только сердитый дым. Пошел дождь. Огромный черный небосвод вдруг раскололся на шесть аспидно-голубых осколков и обрушился вниз. Он увидел десятки миллиардов дождевых кристаллов, они замерли в своем падении ровно на столько времени, сколько нужно было, чтобы их запечатлел электрический фотограф. И снова мрак и вода, вода…
Он промок до костей, но сидел и смеялся, подняв лицо, и капли стучали по векам. Он хлопнул в ладоши, вскочил на ноги и прошелся вокруг своего маленького лагеря; был час ночи.
Дождь лил непрерывно два часа, потом прекратился. Высыпали чисто вымытые звезды, яркие, как никогда.
Бенджамен Дрисколл достал из пластиковой сумки сухую одежду, переоделся, лег и, счастливый, уснул.
— Я должен встать! — крикнул он. — Мне надо видеть Координатора!
Полдня он и Координатор проговорили о том, что растет в зеленом уборе. Пройдут месяцы, если не годы, прежде чем можно будет начать планомерные посадки. Пока что продовольствие доставляют с Земли замороженным, в летающих сосульках; лишь несколько любителей вырастили сады гидропонным способом.
— Так что пока, — сказал Координатор, — действуйте сами. Добудем семян сколько можно, кое-какое снаряжение. Сейчас в ракетах мало места. Боюсь, поскольку первые поселения связаны с рудниками, ваш проект зеленых посадок не будет пользоваться успехом…
— Но вы мне разрешите?
Ему разрешили. Выдали мотоцикл, он наполнил багажник семенами и саженцами, выезжал в пустынные долины, оставлял машину и шел пешком, работая.
Это началось тридцать дней назад, и с той поры он ни разу не оглянулся. Оглянуться — значит пасть духом: стояла необычайно сухая погода, и вряд ли хоть одно семечко проросло. Может быть, битва проиграна? Четыре недели труда — впустую? И он смотрел только вперед, шел вперед по широкой солнечной долине, все дальше от Первого Города, и ждал — ждал, когда же пойдет дождь.
…Он натянул одеяло на плечи; над сухими холмами пухли тучи. Марс непостоянен, как время. Пропеченные солнцем холмы прихватывал ночной заморозок, а он думал о богатой черной почве — такой черной и блестящей, что она чуть ли не шевелилась в горсти, о жирной почве, из которой могли бы расти могучие, исполинские стебли фасоли, и спелые стручки роняли бы огромные, невообразимые зерна, сотрясающие землю.
Сонный костер подернулся пеплом. Воздух дрогнул: вдали прокатилась телега. Гром. Неожиданный запах влаги. «Сегодня ночью, — подумал он и вытянул руку проверить, идет ли дождь. — Сегодня ночью».
Что-то тронуло его бровь, и он проснулся.
По носу на губу скатилась влага. Вторая капля ударила в глаз и на миг его затуманила. Третья разбилась о щеку.
Дождь.
Прохладный, ласковый, легкий, он моросил с высокого неба — волшебный эликсир, пахнущий чарами, звездами, воздухом; он нес с собой черную, как перец, пыль, оставляя на языке то же ощущение, что выдержанный старый херес.
Дождь.
Он сел. Одеяло съехало, и по голубой рубашке забегали темные пятна; капли становились крупнее и крупнее. Костер выглядел так, будто по нему, топча огонь, плясал невидимый зверь; и вот остался только сердитый дым. Пошел дождь. Огромный черный небосвод вдруг раскололся на шесть аспидно-голубых осколков и обрушился вниз. Он увидел десятки миллиардов дождевых кристаллов, они замерли в своем падении ровно на столько времени, сколько нужно было, чтобы их запечатлел электрический фотограф. И снова мрак и вода, вода…
Он промок до костей, но сидел и смеялся, подняв лицо, и капли стучали по векам. Он хлопнул в ладоши, вскочил на ноги и прошелся вокруг своего маленького лагеря; был час ночи.
Дождь лил непрерывно два часа, потом прекратился. Высыпали чисто вымытые звезды, яркие, как никогда.
Бенджамен Дрисколл достал из пластиковой сумки сухую одежду, переоделся, лег и, счастливый, уснул.
Он чуть помешкал, прежде чем встать. Целый месяц, долгий жаркий месяц он работал, работал и ждал… Но сегодня, поднявшись, он впервые повернулся в ту сторону, откуда пришел.
Утро было зеленое.
Насколько хватало глаз, к небу поднимались деревья. Не одно, не два, не десяток, а все те тысячи, что он посадил, семенами или саженцами. И не мелочь какая— нибудь, нет, не поросль, не хрупкие деревца, а мощные стволы, могучие деревья высотой с дом, зеленые-зеленые, огромные, округлые, пышные деревья с отливающей серебром листвой, шелестящие на ветру, длинные ряды деревьев на склонах холмов, лимонные деревья и липы, секвойи и мимозы, дубы и вязы, осины, вишни, клены, ясени, яблони, апельсиновые деревья, эвкалипты — подстегнутые буйным дождем, вскормленные чужой волшебной почвой. На его глазах продолжали тянуться вверх новые ветви, лопались новые почки.
— Невероятно! — воскликнул Бенджамен Дрисколл.
Но долина и утро были зеленые.
А воздух!
Отовсюду, словно живой поток, словно горная река, струился свежий воздух, кислород, источаемый зелеными деревьями. Присмотрись и увидишь, как он переливается в небе хрустальными волнами. Кислород — свежий, чистый, зеленый, прохладный кислород превратил долину в дельту реки. Еще мгновение, и в городе распахнутся двери, люди выбегут навстречу чуду, будут его глотать, вдыхать полной грудью, щеки порозовеют, носы озябнут, легкие заново оживут, сердце забьется чаще, и усталые тела полетят в танце.
Бенджамен Дрисколл глубоко-глубоко вдохнул влажный зеленый воздух и потерял сознание.
Прежде чем он очнулся, навстречу желтому солнцу поднялось еще пять тысяч деревьев.
Саранча
Ракеты жгли сухие луга, обращали камень в лаву, дерево — в уголь, воду — в пар, сплавляли песок и кварц в зеленое стекло; оно лежало везде, словно разбитые зеркала, отражающие в себе ракетное нашествие. Ракеты, ракеты, ракеты, как барабанная дробь в ночи. Ракеты роями саранчи садились в клубах розового дыма. Из ракет высыпали люди с молотками: перековать на привычный лад чужой мир, стесать все необычное, рот ощетинен гвоздями, словно стальнозубая пасть хищника, сплевывает гвозди в мелькающие руки, и те сколачивают каркасные дома, кроют крыши дранкой — чтобы спрятаться от чужих, пугающих звезд, вешают зеленые шторы — чтобы укрыться от ночи. Затем плотники спешили дальше, и являлись женщины с цветочными горшками, пестрыми ситцами, кастрюлями и поднимали кухонный шум, чтобы заглушить тишину Марса, притаившуюся у дверей, у занавешенных окон.
За шесть месяцев на голой планете был заложен десяток городков с великим числом трескучих неоновых трубок и желтых электрических лампочек. Девяносто с лишним тысяч человек прибыло на Марс, а на Земле уже укладывали чемоданы другие…
Ночная встреча
Прежде чем ехать дальше в голубые горы, Томас Гомес остановился возле уединенной бензоколонки.
— Не одиноко тебе здесь, папаша? — спросил Томас.
Старик протер тряпкой ветровое стекло небольшого грузовика.
— Ничего.
— А как тебе Марс нравится, старина?
— Здорово. Всегда что-нибудь новое. Когда я в прошлом году попал сюда, то первым делом сказал себе: вперед не заглядывай, ничего не требуй, ничему не удивляйся. Землю нам надо забыть, все, что было, забыть. Теперь следует приглядеться, освоиться и понять, что здесь все не так, все по-другому. Да тут одна только погода — это же настоящий цирк. Это марсианская погода. Днем жарища адская, ночью адский холод. А необычные цветы, необычный дождь — неожиданности на каждом шагу! Я сюда приехал на покой, задумал дожить жизнь в таком месте, где все иначе. Это очень важно старому человеку — переменить обстановку. Молодежи с ним говорить недосуг, другие старики ему осточертели. Вот я и смекнул, что самое подходящее для меня — найти такое необычное местечко, что только не ленись смотреть, кругом развлечения. Вот, подрядился на эту бензоколонку. Станет чересчур хлопотно, снимусь отсюда и переберусь на какое-нибудь старое шоссе, не такое оживленное; мне бы только заработать на пропитание, да чтобы еще оставалось время примечать, до чего же здесь все не так.
— Неплохо ты сообразил, папаша, — сказал Томас; его смуглые руки лежали, отдыхая, на баранке. У него было отличное настроение. Десять дней кряду он работал в одном из новых поселений, теперь получил два выходных и ехал на праздник.
— Уж я больше ничему не удивляюсь, — продолжал старик. — Гляжу, и только. Можно сказать, набираюсь впечатлений. Если тебе Марс, каков он есть, не по вкусу, отправляйся лучше обратно на Землю. Здесь все шиворот-навыворот: почва, воздух, каналы, туземцы (правда, я еще ни одного не видел, но, говорят, они тут где-то бродят), часы. Мои часы — и те чудят. Здесь даже время шиворот-навыворот. Иной раз мне сдается, что я один-одинешенек, на всей этой проклятой планете больше ни души. Пусто. А иногда покажется, что я — восьмилетний мальчишка, сам махонький, а все кругом здоровенное! Видит бог, тут самое подходящее место для старого человека. Тут не задремлешь, я просто счастливый стал. Знаешь, что такое Марс? Он смахивает на вещицу, которую мне подарили на рождество семьдесят лет назад — не знаю, держал ли ты в руках такую штуку: их калейдоскопами называют, внутри осколки хрусталя, лоскутки, бусинки, всякая мишура… А поглядишь сквозь нее на солнце — дух захватывает! Сколько узоров! Так вот, это и есть Марс. Наслаждайся им и не требуй от него, чтобы он был другим. Господи, да знаешь ли ты, что вот это самое шоссе проложено марсианами шестнадцать веков назад, а в полном порядке! Гони доллар и пятьдесят центов, спасибо и спокойной ночи.
Томас покатил по древнему шоссе, тихонько посмеиваясь.
Это был долгий путь через горы, сквозь тьму, и он держал руль, иногда опуская руку в корзинку с едой и доставая оттуда леденец. Прошло уже больше часа непрерывной езды, и ни одной встречной машины, ни одного огонька, только лента дороги, гул и рокот мотора, и Марс кругом, тихий, безмолвный. Марс — всегда тихий, в эту ночь был тише, чем когда-либо. Мимо Томаса скользили пустыни, и высохшие моря, и вершины среди звезд.
Нынче ночью в воздухе пахло Временем. Он улыбнулся, мысленно оценивая свою выдумку. Неплохая мысль. А в самом деле: чем пахнет Время? Пылью, часами, человеком. А если задуматься, какое оно — Время то есть — на слух? Оно вроде воды, струящейся в темной пещере, вроде зовущих голосов, вроде шороха земли, что сыплется на крышку пустого ящика, вроде дождя. Пойдем еще дальше, спросим, как выглядит Время? Оно точно снег, бесшумно летящий в черный колодец, или старинный немой фильм, в котором сто миллиардов лиц, как новогодние шары, падают вниз, падают в ничто. Вот чем пахнет Время и вот какое оно на вид и на слух. А нынче ночью — Томас высунул руку в боковое окошко, — нынче так и кажется, что его можно даже пощупать.
Ночная встреча
Прежде чем ехать дальше в голубые горы, Томас Гомес остановился возле уединенной бензоколонки.
— Не одиноко тебе здесь, папаша? — спросил Томас.
Старик протер тряпкой ветровое стекло небольшого грузовика.
— Ничего.
— А как тебе Марс нравится, старина?
— Здорово. Всегда что-нибудь новое. Когда я в прошлом году попал сюда, то первым делом сказал себе: вперед не заглядывай, ничего не требуй, ничему не удивляйся. Землю нам надо забыть, все, что было, забыть. Теперь следует приглядеться, освоиться и понять, что здесь все не так, все по-другому. Да тут одна только погода — это же настоящий цирк. Это марсианская погода. Днем жарища адская, ночью адский холод. А необычные цветы, необычный дождь — неожиданности на каждом шагу! Я сюда приехал на покой, задумал дожить жизнь в таком месте, где все иначе. Это очень важно старому человеку — переменить обстановку. Молодежи с ним говорить недосуг, другие старики ему осточертели. Вот я и смекнул, что самое подходящее для меня — найти такое необычное местечко, что только не ленись смотреть, кругом развлечения. Вот, подрядился на эту бензоколонку. Станет чересчур хлопотно, снимусь отсюда и переберусь на какое-нибудь старое шоссе, не такое оживленное; мне бы только заработать на пропитание, да чтобы еще оставалось время примечать, до чего же здесь все не так.
— Неплохо ты сообразил, папаша, — сказал Томас; его смуглые руки лежали, отдыхая, на баранке. У него было отличное настроение. Десять дней кряду он работал в одном из новых поселений, теперь получил два выходных и ехал на праздник.
— Уж я больше ничему не удивляюсь, — продолжал старик. — Гляжу, и только. Можно сказать, набираюсь впечатлений. Если тебе Марс, каков он есть, не по вкусу, отправляйся лучше обратно на Землю. Здесь все шиворот-навыворот: почва, воздух, каналы, туземцы (правда, я еще ни одного не видел, но, говорят, они тут где-то бродят), часы. Мои часы — и те чудят. Здесь даже время шиворот-навыворот. Иной раз мне сдается, что я один-одинешенек, на всей этой проклятой планете больше ни души. Пусто. А иногда покажется, что я — восьмилетний мальчишка, сам махонький, а все кругом здоровенное! Видит бог, тут самое подходящее место для старого человека. Тут не задремлешь, я просто счастливый стал. Знаешь, что такое Марс? Он смахивает на вещицу, которую мне подарили на рождество семьдесят лет назад — не знаю, держал ли ты в руках такую штуку: их калейдоскопами называют, внутри осколки хрусталя, лоскутки, бусинки, всякая мишура… А поглядишь сквозь нее на солнце — дух захватывает! Сколько узоров! Так вот, это и есть Марс. Наслаждайся им и не требуй от него, чтобы он был другим. Господи, да знаешь ли ты, что вот это самое шоссе проложено марсианами шестнадцать веков назад, а в полном порядке! Гони доллар и пятьдесят центов, спасибо и спокойной ночи.
Томас покатил по древнему шоссе, тихонько посмеиваясь.
Это был долгий путь через горы, сквозь тьму, и он держал руль, иногда опуская руку в корзинку с едой и доставая оттуда леденец. Прошло уже больше часа непрерывной езды, и ни одной встречной машины, ни одного огонька, только лента дороги, гул и рокот мотора, и Марс кругом, тихий, безмолвный. Марс — всегда тихий, в эту ночь был тише, чем когда-либо. Мимо Томаса скользили пустыни, и высохшие моря, и вершины среди звезд.
Нынче ночью в воздухе пахло Временем. Он улыбнулся, мысленно оценивая свою выдумку. Неплохая мысль. А в самом деле: чем пахнет Время? Пылью, часами, человеком. А если задуматься, какое оно — Время то есть — на слух? Оно вроде воды, струящейся в темной пещере, вроде зовущих голосов, вроде шороха земли, что сыплется на крышку пустого ящика, вроде дождя. Пойдем еще дальше, спросим, как выглядит Время? Оно точно снег, бесшумно летящий в черный колодец, или старинный немой фильм, в котором сто миллиардов лиц, как новогодние шары, падают вниз, падают в ничто. Вот чем пахнет Время и вот какое оно на вид и на слух. А нынче ночью — Томас высунул руку в боковое окошко, — нынче так и кажется, что его можно даже пощупать.
Он въехал в маленький мертвый марсианский городок, выключил мотор и окунулся в окружающее его безмолвие. Затаив дыхание, он смотрел из кабины на залитые луной белые здания, в которых уже много веков никто не жил. Великолепные, безупречные здания, пусть разрушенные, но все равно великолепные.
Включив мотор, Томас проехал еще милю-другую, потом снова остановился, вылез, захватив свою корзинку, и прошел на бугор, откуда можно было окинуть взглядом занесенный пылью город. Открыл термос и налил себе чашку кофе. Мимо пролетела ночная птица. На душе у него было удивительно хорошо, спокойно.
Минут пять спустя Томас услышал какой-то звук. Вверху, там, где древнее шоссе терялось за поворотом, он приметил какое-то движение, тусклый свет, затем донесся слабый рокот. Томас повернулся, держа чашку в руке. С гор спускалось нечто необычайное.
Это была машина, похожая на желто-зеленое насекомое, на богомола, она плавно рассекала холодный воздух, мерцая бесчисленными зелеными бриллиантами, сверкая фасеточными рубиновыми глазами. Шесть ног машины ступали по древнему шоссе с легкостью моросящего дождя, а со спины машины на Томаса глазами цвета расплавленного золота глядел марсианин, глядел будто в колодец.
Томас поднял руку и мысленно уже крикнул: «Привет!», но губы его не шевельнулись. Потому что это был марсианин. Но Томас плавал на Земле в голубых реках, вдоль которых шли незнакомые люди, вместе с чужими людьми ел в чужих домах, и всегда его лучшим оружием была улыбка. Он не носил с собой пистолета. И сейчас Томас не чувствовал в нем нужды, хотя где-то под сердцем притаился страх.
У марсианина тоже ничего не было в руках. Секунду они смотрели друг на друга сквозь прохладный воздух.
Первым решился Томас
— Привет! — сказал он
— Привет! — сказал марсианин на своем языке.
Они не поняли друг друга.
— Вы сказали «здравствуйте»? — спросили оба одновременно.
— Что вы сказали? — продолжали они, каждый на своем языке.
Оба нахмурились.
— Вы кто? — спросил Томас по-английски.
— Что вы здесь делаете? — произнесли губы чужака по-марсиански.
— Куда вы едете? — спросили оба с озадаченным видом.
— Меня зовут Томас Гомес.
— Меня зовут Мью Ка.
Ни один из них не понял другого, но каждый постучал пальцем по своей груди, и смысл стал обоим ясен.
Вдруг марсианин рассмеялся.
— Подождите!
Томас ощутил, как что-то коснулось его головы, хотя никто его не трогал.
— Вот так! — сказал марсианин по-английски. — Теперь дело пойдет лучше!
— Вы так быстро выучили мой язык?
— Ну что вы!
Оба, не зная, что говорить, посмотрели на чашку с горячим кофе в руке Томаса.
— Что-нибудь новое? — спросил марсианин, разглядывая его и чашку и подразумевая, по-видимому, и то и другое.
— Выпьете чашечку? — предложил Томас.
Он въехал в маленький мертвый марсианский городок, выключил мотор и окунулся в окружающее его безмолвие. Затаив дыхание, он смотрел из кабины на залитые луной белые здания, в которых уже много веков никто не жил. Великолепные, безупречные здания, пусть разрушенные, но все равно великолепные.
Включив мотор, Томас проехал еще милю-другую, потом снова остановился, вылез, захватив свою корзинку, и прошел на бугор, откуда можно было окинуть взглядом занесенный пылью город. Открыл термос и налил себе чашку кофе. Мимо пролетела ночная птица. На душе у него было удивительно хорошо, спокойно.
Минут пять спустя Томас услышал какой-то звук. Вверху, там, где древнее шоссе терялось за поворотом, он приметил какое-то движение, тусклый свет, затем донесся слабый рокот. Томас повернулся, держа чашку в руке. С гор спускалось нечто необычайное.
Это была машина, похожая на желто-зеленое насекомое, на богомола, она плавно рассекала холодный воздух, мерцая бесчисленными зелеными бриллиантами, сверкая фасеточными рубиновыми глазами. Шесть ног машины ступали по древнему шоссе с легкостью моросящего дождя, а со спины машины на Томаса глазами цвета расплавленного золота глядел марсианин, глядел будто в колодец.
Томас поднял руку и мысленно уже крикнул: «Привет!», но губы его не шевельнулись. Потому что это был марсианин. Но Томас плавал на Земле в голубых реках, вдоль которых шли незнакомые люди, вместе с чужими людьми ел в чужих домах, и всегда его лучшим оружием была улыбка. Он не носил с собой пистолета. И сейчас Томас не чувствовал в нем нужды, хотя где-то под сердцем притаился страх.
У марсианина тоже ничего не было в руках. Секунду они смотрели друг на друга сквозь прохладный воздух.
Первым решился Томас
— Привет! — сказал он
— Привет! — сказал марсианин на своем языке.
Они не поняли друг друга.
— Вы сказали «здравствуйте»? — спросили оба одновременно.
— Что вы сказали? — продолжали они, каждый на своем языке.
Оба нахмурились.
— Вы кто? — спросил Томас по-английски.
— Что вы здесь делаете? — произнесли губы чужака по-марсиански.
— Куда вы едете? — спросили оба с озадаченным видом.
— Меня зовут Томас Гомес.
— Меня зовут Мью Ка.
Ни один из них не понял другого, но каждый постучал пальцем по своей груди, и смысл стал обоим ясен.
Вдруг марсианин рассмеялся.
— Подождите!
Томас ощутил, как что-то коснулось его головы, хотя никто его не трогал.
— Вот так! — сказал марсианин по-английски. — Теперь дело пойдет лучше!
— Вы так быстро выучили мой язык?
— Ну что вы!
Оба, не зная, что говорить, посмотрели на чашку с горячим кофе в руке Томаса.
— Что-нибудь новое? — спросил марсианин, разглядывая его и чашку и подразумевая, по-видимому, и то и другое.
— Выпьете чашечку? — предложил Томас.
Марсианин соскользнул со своей машины.
Вторая чашка наполнилась горячим кофе. Томас подал ее марсианину.
Их руки встретились и, точно сквозь туман, прошли одна сквозь другую.
— Господи Иисусе! — воскликнул Томас и выронил чашку.
— Силы небесные! — сказал марсианин на своем языке.
— Видели, что произошло? — прошептали они.
Оба похолодели от испуга.
Марсианин нагнулся за чашкой, но никак не мог ее взять.
— Господи! — ахнул Томас.
— Ну и ну! — Марсианин пытался снова и снова ухватить чашку, ничего не получалось. Он выпрямился, подумал, затем отстегнул от пояса нож.
— Эй! — крикнул Томас.
— Вы не поняли, ловите! — сказал марсианин и бросил нож.
Томас подставил сложенные вместе ладони. Нож упал сквозь руки на землю. Томас хотел его поднять, но не мог ухватить и, вздрогнув, отпрянул.
Он глядел на марсианина, стоящего на фоне неба.
— Звезды! — сказал Томас.
— Звезды! — отозвался марсианин, глядя на Томаса.
Сквозь тело марсианина, яркие, белые, светили звезды, его плоть была расшита ими словно тонкая, переливающаяся искрами оболочка студенистой медузы. Звезды мерцали, точно фиолетовые глаза, в груди и в животе марсианина, блистали драгоценностями на его запястьях.
— Я вижу сквозь вас! — сказал Томас.
— И я сквозь вас! — отвечал марсианин, отступая на шаг.
Томас пощупал себя, ощутил живое тепло собственного тела и успокоился. «Все в порядке, — подумал он, — я существую».
Марсианин коснулся рукой своего носа, губ.
— Я не бесплотный, — негромко сказал он. — Живой!
Томас озадаченно глядел на него.
— Но если я существую, значит, вы — мертвый.
— Нет, вы!
— Привидение!
— Призрак!
Они показывали пальцем друг на друга, и звездный свет в их конечностях сверкал и переливался, как острие кинжала, как ледяные сосульки, как светлячки. Они снова проверили свои ощущения, и каждый убедился, что он жив-здоров и охвачен волнением, трепетом, жаром, недоумением, а вот тот, другой — ну, конечно же, тот нереален, тот призрачная призма, ловящая и излучающая свет далеких миров…
«Я пьян, — сказал себе Томас. — Завтра никому не расскажу про это, ни слова!»
Марсианин соскользнул со своей машины.
Вторая чашка наполнилась горячим кофе. Томас подал ее марсианину.
Их руки встретились и, точно сквозь туман, прошли одна сквозь другую.
— Господи Иисусе! — воскликнул Томас и выронил чашку.
— Силы небесные! — сказал марсианин на своем языке.
— Видели, что произошло? — прошептали они.
Оба похолодели от испуга.
Марсианин нагнулся за чашкой, но никак не мог ее взять.
— Господи! — ахнул Томас.
— Ну и ну! — Марсианин пытался снова и снова ухватить чашку, ничего не получалось. Он выпрямился, подумал, затем отстегнул от пояса нож.
— Эй! — крикнул Томас.
— Вы не поняли, ловите! — сказал марсианин и бросил нож.
Томас подставил сложенные вместе ладони. Нож упал сквозь руки на землю. Томас хотел его поднять, но не мог ухватить и, вздрогнув, отпрянул.
Он глядел на марсианина, стоящего на фоне неба.
— Звезды! — сказал Томас.
— Звезды! — отозвался марсианин, глядя на Томаса.
Сквозь тело марсианина, яркие, белые, светили звезды, его плоть была расшита ими словно тонкая, переливающаяся искрами оболочка студенистой медузы. Звезды мерцали, точно фиолетовые глаза, в груди и в животе марсианина, блистали драгоценностями на его запястьях.
— Я вижу сквозь вас! — сказал Томас.
— И я сквозь вас! — отвечал марсианин, отступая на шаг.
Томас пощупал себя, ощутил живое тепло собственного тела и успокоился. «Все в порядке, — подумал он, — я существую».
Марсианин коснулся рукой своего носа, губ.
— Я не бесплотный, — негромко сказал он. — Живой!
Томас озадаченно глядел на него.
— Но если я существую, значит, вы — мертвый.
— Нет, вы!
— Привидение!
— Призрак!
Они показывали пальцем друг на друга, и звездный свет в их конечностях сверкал и переливался, как острие кинжала, как ледяные сосульки, как светлячки. Они снова проверили свои ощущения, и каждый убедился, что он жив-здоров и охвачен волнением, трепетом, жаром, недоумением, а вот тот, другой — ну, конечно же, тот нереален, тот призрачная призма, ловящая и излучающая свет далеких миров…
«Я пьян, — сказал себе Томас. — Завтра никому не расскажу про это, ни слова!»
— Откуда вы? — спросил наконец марсианин.
— С Земли.
— Что это такое?
— Там. — Томас кивком указал на небо.
— Давно?
— Мы прилетели с год назад, вы разве не помните?
— Нет.
— А вы все к тому времени вымерли, почти все. Вас очень мало осталось — разве вы этого не знаете?
— Это неправда.
— Я вам говорю, вымерли. Я сам видел трупы. Почерневшие тела в комнатах, во всех домах, и все мертвые. Тысячи тел.
— Что за вздор, мы живы!
— Мистер, всех ваших скосила эпидемия. Странно, что вам это неизвестно. Вы каким-то образом спаслись.
— Я не спасся, не от чего мне было спасаться. О чем это вы говорите? Я еду на праздник у канала возле Эниальских Гор. И прошлую ночь был там. Вы разве не видите город? — Марсианин вытянул руку, показывая.
Томас посмотрел и увидел развалины.
— Но ведь этот город мертв уже много тысяч лет!
Марсианин рассмеялся.
— Мертв? Я ночевал там вчера!
— А я его проезжал на той неделе, и на позапрошлой неделе, и вот только что, там одни развалины! Видите разбитые колонны?
— Разбитые? Я их отлично вижу в свете луны. Прямые, стройные колонны.
— На улицах ничего, кроме пыли, — сказал Томас.
— Улицы чистые!
— Каналы давно высохли, они пусты.
— Каналы полны лавандового вина!
— Город мертв.
— Город жив! — возразил марсианин, смеясь еще громче. — Вы решительно ошибаетесь. Видите, сколько там карнавальных огней? Там прекрасные челны, изящные, как женщины, там прекрасные женщины, изящные, как челны, женщины с кожей песочного цвета, женщины с огненными цветками в руках. Я их вижу, вижу, как они бегают вон там, по улицам, такие маленькие отсюда. И я туда еду, на праздник, мы будем всю ночь кататься по каналу, будем петь, пить, любить. Неужели вы не видите?
— Мистер, этот город мертв, как сушеная ящерица. Спросите любого из наших. Что до меня, то я еду в Грин-Сити — новое поселение на Иллинойском шоссе, мы его совсем недавно заложили. А вы что-то напутали. Мы доставили сюда миллион квадратных футов досок лучшего орегонского леса, несколько десятков тонн добрых стальных гвоздей и отгрохали два поселка — глаз не оторвешь. Как раз сегодня спрыскиваем один из них. С Земли прилетают две ракеты с нашими женами и невестами. Будут народные танцы, виски…
Марсианин встрепенулся.
— Вы говорите — в той стороне?
— Да, там, где ракеты. — Томас подвел его к краю бугра и показал вниз. — Видите?
— Нет.
— Да вон же, вон, черт возьми! Такие длинные, серебристые штуки.
— Откуда вы? — спросил наконец марсианин.
— С Земли.
— Что это такое?
— Там. — Томас кивком указал на небо.
— Давно?
— Мы прилетели с год назад, вы разве не помните?
— Нет.
— А вы все к тому времени вымерли, почти все. Вас очень мало осталось — разве вы этого не знаете?
— Это неправда.
— Я вам говорю, вымерли. Я сам видел трупы. Почерневшие тела в комнатах, во всех домах, и все мертвые. Тысячи тел.
— Что за вздор, мы живы!
— Мистер, всех ваших скосила эпидемия. Странно, что вам это неизвестно. Вы каким-то образом спаслись.
— Я не спасся, не от чего мне было спасаться. О чем это вы говорите? Я еду на праздник у канала возле Эниальских Гор. И прошлую ночь был там. Вы разве не видите город? — Марсианин вытянул руку, показывая.
Томас посмотрел и увидел развалины.
— Но ведь этот город мертв уже много тысяч лет!
Марсианин рассмеялся.
— Мертв? Я ночевал там вчера!
— А я его проезжал на той неделе, и на позапрошлой неделе, и вот только что, там одни развалины! Видите разбитые колонны?
— Разбитые? Я их отлично вижу в свете луны. Прямые, стройные колонны.
— На улицах ничего, кроме пыли, — сказал Томас.
— Улицы чистые!
— Каналы давно высохли, они пусты.
— Каналы полны лавандового вина!
— Город мертв.
— Город жив! — возразил марсианин, смеясь еще громче. — Вы решительно ошибаетесь. Видите, сколько там карнавальных огней? Там прекрасные челны, изящные, как женщины, там прекрасные женщины, изящные, как челны, женщины с кожей песочного цвета, женщины с огненными цветками в руках. Я их вижу, вижу, как они бегают вон там, по улицам, такие маленькие отсюда. И я туда еду, на праздник, мы будем всю ночь кататься по каналу, будем петь, пить, любить. Неужели вы не видите?
— Мистер, этот город мертв, как сушеная ящерица. Спросите любого из наших. Что до меня, то я еду в Грин-Сити — новое поселение на Иллинойском шоссе, мы его совсем недавно заложили. А вы что-то напутали. Мы доставили сюда миллион квадратных футов досок лучшего орегонского леса, несколько десятков тонн добрых стальных гвоздей и отгрохали два поселка — глаз не оторвешь. Как раз сегодня спрыскиваем один из них. С Земли прилетают две ракеты с нашими женами и невестами. Будут народные танцы, виски…
Марсианин встрепенулся.
— Вы говорите — в той стороне?
— Да, там, где ракеты. — Томас подвел его к краю бугра и показал вниз. — Видите?
— Нет.
— Да вон же, вон, черт возьми! Такие длинные, серебристые штуки.
Теперь рассмеялся Томас.
— Да вы ослепли!
— У меня отличное зрение. Это вы не видите.
— Ну хорошо, а новый поселок вы видите? Или тоже нет?
— Ничего не вижу, кроме океана — и как раз сейчас отлив.
— Уважаемый, этот океан испарился сорок веков тому назад.
— Ну, знаете, это уж чересчур.
— Но это правда, уверяю вас!
Лицо марсианина стало очень серьезным.
— Постойте. Вы в самом деле не видите города, как я его вам описал? Белые-белые колонны, изящные лодки, праздничные огни — я их так отчетливо вижу! Вслушайтесь! Я даже слышу, как там поют. Не такое уж большое расстояние.
Томас прислушался и покачал головой.
— Нет.
— А я, — продолжал марсианин, — не вижу того, что описываете вы. Как же так?..
Они снова зябко вздрогнули, точно их плоть пронизало ледяными иглами.
— А может быть?..
— Что?
— Вы сказали «с неба»?
— С Земли.
— Земля — название, пустой звук… — произнес марсианин. — Но… час назад, когда я ехал через перевал… — Он коснулся своей шеи сзади. — Я ощутил.
— Холод?
— Да.
— И теперь тоже?
— Да, снова холод. Что-то было со светом, с горами, с дорогой — что-то необычное. И свет, и дорога словно не те, и у меня на мгновение появилось такое чувство, будто я последний из живущих во вселенной…
— И со мной так было! — воскликнул Томас взволнованно; он как будто беседовал с добрым старым другом, доверяя ему что-то сокровенное.
Марсианин закрыл глаза и снова открыл их.
— Тут может быть только одно объяснение. Все дело во Времени. Да-да. Вы — создание Прошлого!
— Нет, это вы из Прошлого, — сказал землянин, поразмыслив.
— Как вы уверены! Вы можете доказать, кто из Прошлого, а кто из Будущего? Какой сейчас год?
— Две тысячи второй!
— Что это говорит мне?
Томас подумал и пожал плечами.
— Ничего.
— Все равно, что я бы вам сказал, что сейчас 4 462 853 год по нашему летосчислению. Слова — ничто, меньше, чем ничто! Где часы, по которым мы бы определили положение звезд?
— Но развалины — доказательство! Они доказывают, что я — Будущее. Я жив, а вы мертвы!
— Все мое существо отвергает такую возможность. Мое сердце бьется, желудок требует пищи, рот жаждет воды. Нет, никто из нас ни жив, ни мертв. Впрочем, скорее жив, чем мертв. А еще вернее, мы как бы посередине. Вот: два странника, которые встретились ночью в пути. Два незнакомца, у каждого своя дорога. Вы говорите, развалины?
Теперь рассмеялся Томас.
— Да вы ослепли!
— У меня отличное зрение. Это вы не видите.
— Ну хорошо, а новый поселок вы видите? Или тоже нет?
— Ничего не вижу, кроме океана — и как раз сейчас отлив.
— Уважаемый, этот океан испарился сорок веков тому назад.
— Ну, знаете, это уж чересчур.
— Но это правда, уверяю вас!
Лицо марсианина стало очень серьезным.
— Постойте. Вы в самом деле не видите города, как я его вам описал? Белые-белые колонны, изящные лодки, праздничные огни — я их так отчетливо вижу! Вслушайтесь! Я даже слышу, как там поют. Не такое уж большое расстояние.
Томас прислушался и покачал головой.
— Нет.
— А я, — продолжал марсианин, — не вижу того, что описываете вы. Как же так?..
Они снова зябко вздрогнули, точно их плоть пронизало ледяными иглами.
— А может быть?..
— Что?
— Вы сказали «с неба»?
— С Земли.
— Земля — название, пустой звук… — произнес марсианин. — Но… час назад, когда я ехал через перевал… — Он коснулся своей шеи сзади. — Я ощутил.
— Холод?
— Да.
— И теперь тоже?
— Да, снова холод. Что-то было со светом, с горами, с дорогой — что-то необычное. И свет, и дорога словно не те, и у меня на мгновение появилось такое чувство, будто я последний из живущих во вселенной…
— И со мной так было! — воскликнул Томас взволнованно; он как будто беседовал с добрым старым другом, доверяя ему что-то сокровенное.
Марсианин закрыл глаза и снова открыл их.
— Тут может быть только одно объяснение. Все дело во Времени. Да-да. Вы — создание Прошлого!
— Нет, это вы из Прошлого, — сказал землянин, поразмыслив.
— Как вы уверены! Вы можете доказать, кто из Прошлого, а кто из Будущего? Какой сейчас год?
— Две тысячи второй!
— Что это говорит мне?
Томас подумал и пожал плечами.
— Ничего.
— Все равно, что я бы вам сказал, что сейчас 4 462 853 год по нашему летосчислению. Слова — ничто, меньше, чем ничто! Где часы, по которым мы бы определили положение звезд?
— Но развалины — доказательство! Они доказывают, что я — Будущее. Я жив, а вы мертвы!
— Все мое существо отвергает такую возможность. Мое сердце бьется, желудок требует пищи, рот жаждет воды. Нет, никто из нас ни жив, ни мертв. Впрочем, скорее жив, чем мертв. А еще вернее, мы как бы посередине. Вот: два странника, которые встретились ночью в пути. Два незнакомца, у каждого своя дорога. Вы говорите, развалины?
— Кому хочется увидеть Будущее? И кто его когда-либо увидит? Человек может лицезреть Прошлое, но чтобы… Вы говорите, колонны рухнули? И море высохло, каналы пусты, девушки умерли, цветы завяли? — Марсианин смолк, но затем снова посмотрел на город. — Но вон же они! Я их вижу, и мне этого достаточно. Они ждут меня, что бы вы ни говорили.
Точно так же вдали ждали Томаса ракеты, и поселок, и женщины с Земли.
— Мы никогда не согласимся друг с другом, — сказал он.
— Согласимся не соглашаться, — предложил марсианин. — Прошлое, Будущее — не все ли равно, лишь бы мы оба жили, ведь то, что придет вслед за нами, все равно придет — завтра или через десять тысяч лет. Откуда вы знаете, что эти храмы — не обломки вашей цивилизации через сто веков? Не знаете. Ну так и не спрашивайте. Однако ночь коротка. Вон рассыпался в небе праздничный фейерверк, взлетели птицы.
Томас протянул руку. Марсианин повторил его жест. Их руки не соприкоснулись — они растворились одна в другой.
— Мы еще встретимся?
— Кто знает? Возможно, когда-нибудь.
— Хотелось бы мне побывать с вами на вашем празднике.
— А мне — попасть в ваш новый поселок, увидеть корабль, о котором вы говорили, увидеть людей, услышать обо всем, что случилось.
— До свидания, — сказал Томас.
— Доброй ночи.
Марсианин бесшумно укатил в горы на своем зеленом металлическом экипаже, землянин развернул свой грузовик и молча повел его в противоположную сторону.
— Господи, что за сон, — вздохнул Томас, держа руки на баранке и думая о ракетах, о женщинах, о крепком виски, о вирджинских плясках, о предстоящем веселье.
«Какое странное видение», — мысленно произнес марсианин, прибавляя скорость и думая о празднике, каналах, лодках, золотоглазых женщинах, песнях…
Ночь была темна. Луны зашли. Лишь звезды мерцали над пустым шоссе. Ни звука, ни машины, ни единого живого существа, ничего. И так было до конца этой прохладной темной ночи.
Берег
Марс был словно дальний берег океана, люди волнами растекались по нему. Каждая волна непохожа на предыдущую, одна мощнее другой. Первая принесла людей, привычных к просторам, холодам, одиночеству, худых, сухощавых старателей и пастухов, лица у них иссушены годами и непогодами, глаза, как шляпки гвоздей, руки задубевшие, как старые перчатки, готовы взяться за что угодно. Марс был им нипочем, они выросли на равнинах и прериях, таких же безбрежных, как марсианские поля. Они обживали голое место, так что другим было уже легче решиться. Остекляли пустые рамы, зажигали в домах огни.
Они были первыми мужчинами на Марсе.
Каковы будут первые женщины — знали все.
Со второй волной надо было бы доставить людей иных стран, со своей речью, своими идеями. Но ракеты были американские, и прилетели на них американцы, а Европа и Азия, Южная Америка, Австралия и Океания только смотрели, как исчезают в выси римские свечи. Мир был поглощен войной или мыслями о войне.
Так что вторыми тоже были американцы. Покинув мир многоярусных клетушек и вагонов подземки, они отдыхали душой и телом в обществе скупых на слова мужчин из степных штатов, знающих цену молчанию, которое помогало обрести душевный покой после долгих лет толкотни в каморках, коробках, туннелях Нью-Йорка.
И были среди вторых такие, которым, судя по их глазам, чудилось, будто они возносятся к господу богу.
Интермедия
Они привезли с собой пятнадцать тысяч погонных футов орегонской сосны для строительства Десятого города и семьдесят девять тысяч футов калифорнийской секвойи и отгрохали чистенький, аккуратный городок возле каменных каналов. Воскресными вечерами красно-зелено-голубые матовые стекла церковных окон вспыхивали светом и слышались голоса, поющие нумерованные церковные гимны. «А теперь споем 79. А теперь споем 94». В некоторых домах усердно стучали пишущие машинки — это работали писатели; или скрипели перья — там творили поэты; или царила тишина — там жили бывшие бродяги. Все это и многое другое создавало впечатление, будто могучее землетрясение расшатало фундаменты и подвалы провинциального американского городка, а затем смерч сказочной мощи мгновенно перенес весь городок на Марс и осторожно поставил его здесь, даже не тряхнув…
Музыканты
В какие только уголки Марса не забирались мальчишки. Они прихватывали с собой из дома вкусно пахнущие пакеты и по пути время от времени засовывали в них носы — вдохнуть сытный дух ветчины и пикулей с майонезом, прислушаться к влажному бульканью апельсиновой воды в теплых бутылках. Размахивая сумками с сочным, прозрачно-зеленым луком, пахучей ливерной колбасой, красным кетчупом и белым хлебом, они подбивали друг друга переступить запреты строгих родительниц. Они бегали взапуски:
— Кто первый добежит, дает остальным щелчка!
Они ходили в дальние прогулки летом, осенью, зимой. Осенью — лучше всего: можно вообразить, будто ты, как на Земле, бегаешь по опавшей листве.
Горстью звучных камешков высыпали мальчишки — кирпичные щеки, голубые бусины глаз — на мраморные набережные каналов и, запыхавшись, подбадривали друг друга возгласами, благоухающими луком. Потому что здесь, у стен запретного мертвого города, никто уже не кричал: «Последний будет девчонкой!» или «Первый будет Музыкантом!» Вот он, безжизненный город и все двери открыты… И кажется, будто что-то шуршит в домах, как осенние листья. Они крадутся дальше, все вместе, плечом к плечу, и в руках стиснуты палки, а в голове — родительский наказ: «Только не туда! В старые города ни в коем случае! Если посмеешь — отец всыплет так, что век будешь помнить!.. Мы по ботинкам узнаем!»
И вот они в мертвом городе, мальчишья стая, половина дорожной снеди уже проглочена, и они подзадоривают друг друга свистящим шепотом:
— Ну давай!
Внезапно один срывается с места, вбегает в ближайший дом, летит через столовую в спальню, и ну скакать без оглядки, приплясывать, и взлетают в воздух черные листья, тонкие, хрупкие, будто плоть полуночного неба. За первым вбегают еще двое, трое, все шестеро, но Музыкантом будет первый, только он будет играть на белом ксилофоне костей, обтянутых черными хлопьями. Снежным комом выкатывается огромный череп, мальчишки кричат! Ребра — паучьи ноги, ребра — гулкие струны арфы, и черной вьюгой кружатся смертные хлопья, а мальчишки затеяли возню, прыгают, толкают друг друга, падают прямо на эти листья, на чуму, обратившую мертвых в хлопья и прах, в игрушку для мальчишек, в животах которых булькала апельсиновая вода.
Отсюда — в следующий дом и еще в семнадцать домов; надо спешить — ведь из города в город, начисто выжигая все ужасы, идут Пожарники, дезинфекторы с лопатами и корзинами, сгребают, выгребают эбеновые лохмотья и белые палочки-кости, медленно, но верно отделяя страшное от обыденного… Играйте, мальчишки, не мешкайте, скоро придут Пожарные!
И вот, светясь капельками пота, впиваются зубами в последний бутерброд. Затем — еще раз наподдать ногой напоследок, еще раз выбить дробь из маримбофона, по— осеннему нырнуть в кучу листьев и — в путь, домой.
Матери проверяли ботинки, нет ли черных чешуек. Найдут — получай: обжигающую ванну и отеческое внушение ремнем.
К концу года Пожарники выгребли все осенние листья и белые ксилофоны, потехе пришел конец.
Музыканты
В какие только уголки Марса не забирались мальчишки. Они прихватывали с собой из дома вкусно пахнущие пакеты и по пути время от времени засовывали в них носы — вдохнуть сытный дух ветчины и пикулей с майонезом, прислушаться к влажному бульканью апельсиновой воды в теплых бутылках. Размахивая сумками с сочным, прозрачно-зеленым луком, пахучей ливерной колбасой, красным кетчупом и белым хлебом, они подбивали друг друга переступить запреты строгих родительниц. Они бегали взапуски:
— Кто первый добежит, дает остальным щелчка!
Они ходили в дальние прогулки летом, осенью, зимой. Осенью — лучше всего: можно вообразить, будто ты, как на Земле, бегаешь по опавшей листве.
Горстью звучных камешков высыпали мальчишки — кирпичные щеки, голубые бусины глаз — на мраморные набережные каналов и, запыхавшись, подбадривали друг друга возгласами, благоухающими луком. Потому что здесь, у стен запретного мертвого города, никто уже не кричал: «Последний будет девчонкой!» или «Первый будет Музыкантом!» Вот он, безжизненный город и все двери открыты… И кажется, будто что-то шуршит в домах, как осенние листья. Они крадутся дальше, все вместе, плечом к плечу, и в руках стиснуты палки, а в голове — родительский наказ: «Только не туда! В старые города ни в коем случае! Если посмеешь — отец всыплет так, что век будешь помнить!.. Мы по ботинкам узнаем!»
И вот они в мертвом городе, мальчишья стая, половина дорожной снеди уже проглочена, и они подзадоривают друг друга свистящим шепотом:
— Ну давай!
Внезапно один срывается с места, вбегает в ближайший дом, летит через столовую в спальню, и ну скакать без оглядки, приплясывать, и взлетают в воздух черные листья, тонкие, хрупкие, будто плоть полуночного неба. За первым вбегают еще двое, трое, все шестеро, но Музыкантом будет первый, только он будет играть на белом ксилофоне костей, обтянутых черными хлопьями. Снежным комом выкатывается огромный череп, мальчишки кричат! Ребра — паучьи ноги, ребра — гулкие струны арфы, и черной вьюгой кружатся смертные хлопья, а мальчишки затеяли возню, прыгают, толкают друг друга, падают прямо на эти листья, на чуму, обратившую мертвых в хлопья и прах, в игрушку для мальчишек, в животах которых булькала апельсиновая вода.
Отсюда — в следующий дом и еще в семнадцать домов; надо спешить — ведь из города в город, начисто выжигая все ужасы, идут Пожарники, дезинфекторы с лопатами и корзинами, сгребают, выгребают эбеновые лохмотья и белые палочки-кости, медленно, но верно отделяя страшное от обыденного… Играйте, мальчишки, не мешкайте, скоро придут Пожарные!
И вот, светясь капельками пота, впиваются зубами в последний бутерброд. Затем — еще раз наподдать ногой напоследок, еще раз выбить дробь из маримбофона, по— осеннему нырнуть в кучу листьев и — в путь, домой.
Матери проверяли ботинки, нет ли черных чешуек. Найдут — получай: обжигающую ванну и отеческое внушение ремнем.
К концу года Пожарники выгребли все осенние листья и белые ксилофоны, потехе пришел конец.
Модер, ты с ума сошел что ли?

Отведай хуйца


А если всплывет?
Куда ты сам пока не знаешь.
Штурвал берет другой пилот,
А ты об этом лишь мечтаешь...
И если видишь новый взлет,
Про все на свете забываешь.
И в небе каждый самолет
Подолгу взглядом провожаешь...
Твоя любовь, твоя мечта
Убрав шасси уходит в небо.
И мало слова "красота" -
Ведь ничего прекрасней нету!
Ход времени неумолим,
Наступит день, взревут турбины...
И оторвется от земли
Тебе послушная машина.
Еще летит твой самолет,
Куда ты сам пока не знаешь.
И держит курс другой пилот,
А ты об этом лишь мечтаешь...

Свали отсюда нахуй
Мне и без тебя не легко
Даже хочется плакать
Дверь мне запили
Дверь мне запили
Дверь мне запили
Постой
Наступило утро
Холодный ветер дует
А двери нет и нет
Мент поганый верни
То что вчера выпилил
Мою прекрасную дверь
Дверь мне запили
дверь мне запили
Дверь мне запили
Постой
Межгалактического судна
Пристегнуть ремни, мы поднимаемся
В космос
Витя АКА станет нашим пророком
Будет вести сквозь туманную даль
Словно рейнджеры с 3000 года
Летим в одиночестве ебашить лесанов
Мой таз, ты так прекрасен,
Только с тобой, мы вне гравитации
Мой таз, время не властна,
Часовые пояса не догонят нас
Мой таз, ты так прекрасен
Только с тобой мы вне гравитации
Мой таз, время не властна, часовые пояса
Не догонят нас
Мой таз, ты так прекрасен
Только с тобой мы вне гравитации
Мой таз, время не властна,
Часовые пояса не догонят нас
Душа и дверь закрыты твои на замки...
Ты видишь жизнь только через экран монитора!
Ещё один шаг - не вернуться назад, и...
Лишь только шесть граней у твоего мира!
Твоя тюрьма - твоя квартира!
Лишь только шесть граней у твоего мира!
Твоя тюрьма - твоя квартира!
За окнами день, вечер и ночь уже не имеют значения,
Знакомые лица слились в один водоворот...
Ты живёшь в самопровозглашённом заточении,
Пока твоё время мимо идёт...
Лишь только шесть граней у твоего мира!
Твоя тюрьма - твоя квартира!
Лишь только шесть граней у твоего мира!
Твоя тюрьма - твоя квартира!
Поменяй шесть граней на бесконечность,
Одиночество - на целый мир...
Поменяй шесть граней на бесконечность,
Одиночество - на целый мир!
Лишь только шесть граней у твоего мира!
Твоя тюрьма - твоя квартира!
Лишь только шесть граней у твоего мира!
Твоя тюрьма - твоя квартира!
Душа и дверь закрыты твои на замки...
Ты видишь жизнь только через экран монитора!
Ещё один шаг - не вернуться назад, и...
Лишь только шесть граней у твоего мира!
Твоя тюрьма - твоя квартира!
Лишь только шесть граней у твоего мира!
Твоя тюрьма - твоя квартира!
За окнами день, вечер и ночь уже не имеют значения,
Знакомые лица слились в один водоворот...
Ты живёшь в самопровозглашённом заточении,
Пока твоё время мимо идёт...
Лишь только шесть граней у твоего мира!
Твоя тюрьма - твоя квартира!
Лишь только шесть граней у твоего мира!
Твоя тюрьма - твоя квартира!
Поменяй шесть граней на бесконечность,
Одиночество - на целый мир...
Поменяй шесть граней на бесконечность,
Одиночество - на целый мир!
Лишь только шесть граней у твоего мира!
Твоя тюрьма - твоя квартира!
Лишь только шесть граней у твоего мира!
Твоя тюрьма - твоя квартира!
Твои нервы без потери.
Моей болью, моим взглядом,
Твоей кровью, твоим адом.
И на твоих глазах я обыграю роль
Того, кто жил в сердцах и причинял боль
Но люди не могут жить без конца
Им нужно, чтобы кто-то ранил их сердца
Моё время, твои мысли
Над пропастью зависли
Моим доводом и аргументом
Инцидент за инцидентом
И на твоих глазах я обыграю роль
Того, кто жил в сердцах и причинял боль
Но люди не могут жить без конца
Им нужно, чтобы кто-то ранил их сердца
Моё время, моя гордость
Твою хрупкость, твою твёрдость.
Моей болью, моим краем,
твоей кровью, твоим раем.
И на твоих глазах я обыграю роль
Того, кто жил в сердцах и причинял боль
Но люди не могут жить без конца
Им нужно, чтобы кто-то ранил их сердца
Твои нервы без потери.
Моей болью, моим взглядом,
Твоей кровью, твоим адом.
И на твоих глазах я обыграю роль
Того, кто жил в сердцах и причинял боль
Но люди не могут жить без конца
Им нужно, чтобы кто-то ранил их сердца
Моё время, твои мысли
Над пропастью зависли
Моим доводом и аргументом
Инцидент за инцидентом
И на твоих глазах я обыграю роль
Того, кто жил в сердцах и причинял боль
Но люди не могут жить без конца
Им нужно, чтобы кто-то ранил их сердца
Моё время, моя гордость
Твою хрупкость, твою твёрдость.
Моей болью, моим краем,
твоей кровью, твоим раем.
И на твоих глазах я обыграю роль
Того, кто жил в сердцах и причинял боль
Но люди не могут жить без конца
Им нужно, чтобы кто-то ранил их сердца
Как ребенок точь-в-точь,
Недобитый романтик
Отправляется в ночь.
Худосочные феи
Вдоль обочин стоят.
Он глядит и немеет,
Ловит каждый их взгляд.
В сладкий сон погружен,
В круге вечных фантазий,
Не заметит и он
Этой жизни чумазой.
Каково удержаться,
Каково не упасть,
Ведь в лицо ему глядя
Насмехаются всласть.
Говорил ведь ему
Сам король хиромантии:
«Быть тебе, по всему,
Недобитым романтиком!»
В сладкий сон погружен,
В круге вечных фантазий,
Не заметит и он
Этой жизни чумазой.
Так скажи, чего ради,
Если все лишь пустяк,
Если тихое сердце
Как в свинцовых сетях?
Только нету печали,
Прочь сомнения, прочь –
Недобитый романтик
Отправляется в ночь…
В сладкий сон погружен,
В круге вечных фантазий,
Не заметит и он
Этой жизни чумазой.
Как ребенок точь-в-точь,
Недобитый романтик
Отправляется в ночь.
Худосочные феи
Вдоль обочин стоят.
Он глядит и немеет,
Ловит каждый их взгляд.
В сладкий сон погружен,
В круге вечных фантазий,
Не заметит и он
Этой жизни чумазой.
Каково удержаться,
Каково не упасть,
Ведь в лицо ему глядя
Насмехаются всласть.
Говорил ведь ему
Сам король хиромантии:
«Быть тебе, по всему,
Недобитым романтиком!»
В сладкий сон погружен,
В круге вечных фантазий,
Не заметит и он
Этой жизни чумазой.
Так скажи, чего ради,
Если все лишь пустяк,
Если тихое сердце
Как в свинцовых сетях?
Только нету печали,
Прочь сомнения, прочь –
Недобитый романтик
Отправляется в ночь…
В сладкий сон погружен,
В круге вечных фантазий,
Не заметит и он
Этой жизни чумазой.

нема
Вы видите копию треда, сохраненную 26 сентября 2014 года.
Можете попробовать обновить страницу, чтобы увидеть актуальную версию.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.